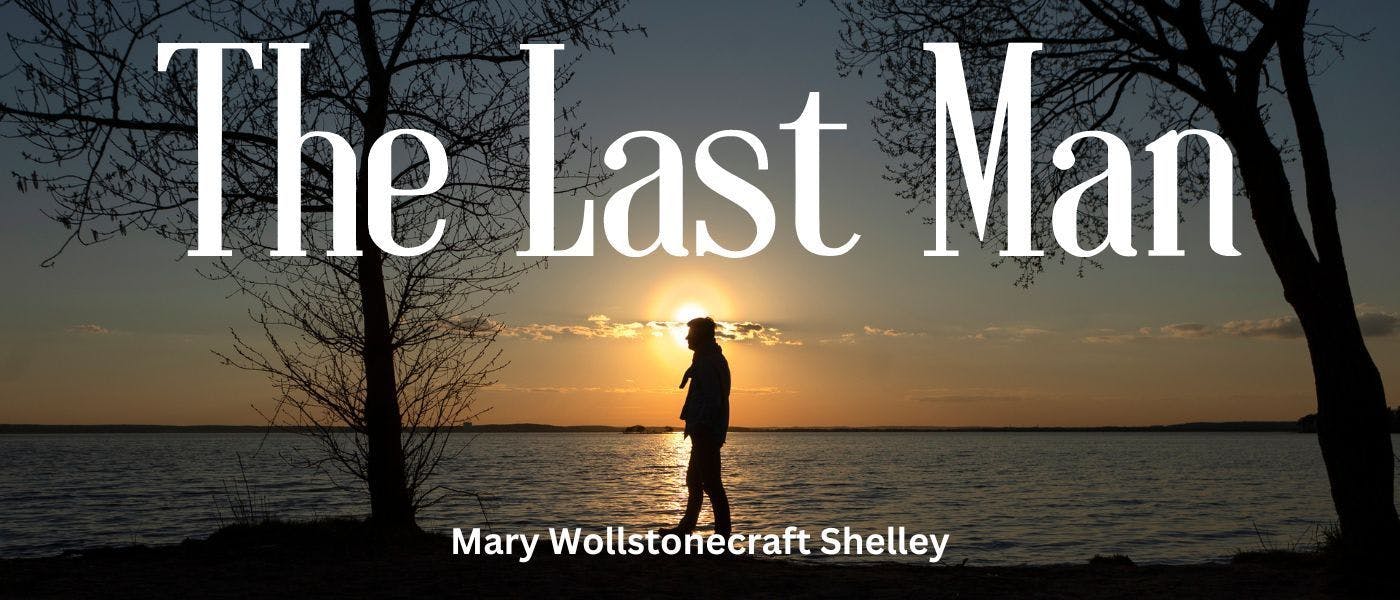
Звезды все еще ярко сияли, когда я проснулся
1 ноября 2023 г.Последний человек Мэри Уолстонкрафт Шелли входит в серию книг HackerNoon. Вы можете перейти к любой главе этой книги здесь. ГЛАВА III
ГЛАВА III.
Когда я проснулся, звезды все еще ярко сияли, а Телец высоко на южном небе показывал, что уже полночь. Я проснулся от тревожных снов. Мне казалось, что меня пригласили на последний пир Тимона; Я пришел с острым аппетитом, покрывала были сняты, горячая вода поднимала неприятные пары, а я бежал перед гневом хозяина, принявшего облик Раймонда; в то время как, по моему больному воображению, сосуды, брошенные им вслед мне, наполнились зловонным паром, и форма моего друга, измененная тысячами искажений, превратилась в гигантский призрак, несущий на своем челе знак мора. Растущая тень поднималась и поднималась, заполняя, а затем, казалось, пытаясь вырваться за пределы несокрушимого свода, который наклонился, поддерживая и заключая мир. Кошмар превратился в пытку; с большим усилием я отбросил сон и вернул разум к ее привычным функциям. Моей первой мыслью была Пердита; к ней я должен вернуться; ее я должен поддержать, черпая из отчаяния такую пищу, которая могла бы лучше всего поддержать ее израненное сердце; вызывая ее от диких крайностей горя, от строгих законов долга и от мягкой нежности сожаления.
Положение звезд было моим единственным ориентиром. Я отвернулся от ужасных развалин Золотого города и после огромных усилий сумел выбраться из его ограды. За стенами я встретил роту солдат; Я одолжил у одного из них лошадь и поспешил к сестре. За этот короткий промежуток времени вид равнины изменился; лагерь был разбит; остатки расформированной армии встречались небольшими группами тут и там; каждое лицо было омрачено; каждый жест выражал удивление и тревогу.
С тяжелым сердцем я вошел во дворец и стоял, боясь подойти, заговорить, посмотреть. Посреди зала стояла Пердита; она сидела на мраморном тротуаре, опустив голову на грудь, волосы ее были растрепаны, пальцы ее деловито переплелись один в другой; она была бледна, как мрамор, и все черты ее лица были искажены агонией. Она заметила меня и вопросительно посмотрела вверх; ее полувзгляд надежды был страданием; слова умерли прежде, чем я смог их сформулировать; Я почувствовал, как жуткая улыбка сморщила мои губы. Она поняла мой жест; снова упала ее голова; ее пальцы снова беспокойно заработали. Наконец я обрел речь, но мой голос напугал ее; несчастная девушка поняла мой взгляд и ни за что не хотела бы, чтобы рассказ о ее тяжелых страданиях был оформлен и подтвержден жесткими, неотвратимыми словами. Нет, она как будто хотела отвлечь мои мысли от предмета: она поднялась с пола: «Тише!» сказала она шепотом; «После долгих рыданий Клара засыпает; мы не должны ее беспокоить. Затем она села на тот же пуфик, где я оставил ее утром, отдыхая на бьющемся сердце ее Раймонда; Я не осмеливался подойти к ней, а сидел в дальнем углу, наблюдая за ее вздрагивающими и нервными жестами. Наконец она резко спросила: «Где он?»
«О, не бойтесь, — продолжала она, — не бойтесь, что я питаю надежду! Но скажи мне, ты нашел его? Снова держать его в своих объятиях, увидеть его, пусть и изменившимся, — это все, чего я желаю. Хотя Константинополь и будет нагроможден над ним, как могила, все же я должен найти его, а затем накрыть нас тяжестью города, воздвигнув наверху гору, - мне все равно, чтобы в одной могиле остались Раймонд и его Пердита. Затем, плача, она прижалась ко мне: «Отведи меня к нему, — кричала она, — недобрый Лайонел, почему ты держишь меня здесь? Сам я его найти не могу — но ты знаешь, где он лежит — веди меня туда».
Поначалу эти мучительные жалобы наполнили меня нестерпимым состраданием. Но вскоре я попытался извлечь для нее терпение из предложенных ею идей. Я рассказал о своих ночных приключениях, о своих попытках найти потерявшегося человека и о своем разочаровании. Повернув таким образом ее мысли, я дал им предмет, который спас их от безумия. С видимым спокойствием она обсудила со мной вероятное место, где его можно найти, и спланировала, какие средства нам следует использовать для этой цели. Потом, услышав о моей усталости и воздержании, она сама принесла мне еду. Я воспользовался благоприятным моментом и попытался пробудить в ней нечто большее, чем убийственное оцепенение горя. Пока я говорил, моя тема увлекла меня; глубокое восхищение; Горе, порождение самой искренней привязанности, переполняющее сердце сочувствием ко всему великому и возвышенному в карьере моего друга, вдохновило меня, когда я расхваливал Раймонда.
«Увы нам, — воскликнул я, — потерявшим эту последнюю честь мира! Любимый Рэймонд! Он ушел к народам мертвых; он стал одним из тех, кто делает темную обитель темной могилы прославленной, живя там. Он прошел по дороге, ведущей к нему, и присоединился к сильным духом, которые шли до него. Когда мир находился в зачаточном состоянии, смерть, должно быть, была ужасной, и человек оставил своих друзей и родственников жить одиноким чужаком в неизвестной стране. Но теперь тот, кто умирает, находит множество товарищей, ушедших раньше, чтобы подготовиться к его приему. Его населяют великие прошлых веков, среди его обитателей причисляются возвышенные герои наших дней, а жизнь становится вдвойне «пустыней и одиночеством».
«Каким благородным существом был Раймунд, первый среди людей нашего времени. Величием своих замыслов, изящной смелостью своих действий, своим остроумием и красотой он покорял и правил умами всех. Его можно было обвинить только в одном проступке; но его смерть отменила это. Я слышал, как его называли непостоянным в цели: когда он ради любви оставил надежду на суверенитет и когда он отрекся от протектората Англии, люди обвиняли его в слабости цели. Теперь его смерть увенчала его жизнь, и до конца времен будут помнить, что он, добровольная жертва, посвятил себя славе Греции. Таков был его выбор: он ожидал смерти. Он предвидел, что покинет эту веселую землю, светлое небо и твою любовь, Пердиту; однако он не колебался и не повернул назад, направляясь прямо к своей славе. Пока существует земля, его действия будут отмечены хвалой. Греческие девушки с благоговением посыпят цветами его могилу и заставят воздух вокруг нее звучать патриотическими гимнами, в которых его имя найдет высокую оценку».
Я увидел, как лицо Пердиты смягчилось; суровость горя уступила место нежности, — я продолжал: — Таким образом, почтить его — священный долг тех, кто выжил. Сделать его имя даже святым местом земли, ограждать его от всех враждебных нападок нашей хвалы, проливать на него цветы любви и сожаления, охранять его от распада и завещать незапятнанным потомкам. Таков долг его друзей. Более дорогая принадлежит тебе, Пердита, мать его ребенка. Помните ли вы, в младенчестве, с каким восторгом вы смотрели на Клару, узнавая в ней единое существо себя и Раймонда; радостно видеть в этом живом храме проявление Твоей вечной любви. Даже такова она до сих пор. Вы говорите, что потеряли Рэймонда. О нет! Но он живет там с тобой и в тебе. От него она произошла, плоть от его плоти, кость от его кости, и вы не довольствуетесь, как прежде, прослеживанием в ее пушистых щеках и хрупких конечностях близость к Раймонду, но в ее восторженной привязанности, в нежных качествах ее разум, вы все еще можете найти его живым, хорошим, великим, любимым. Заботьтесь ли вы о том, чтобы укрепить это сходство, о том, чтобы сделать ее достойной его, чтобы, хвалясь своим происхождением, она не стыдилась того, кто она есть».
Я мог заметить, что, когда я вспоминал мысли сестры о ее жизненных обязанностях, она слушала меня уже не с тем терпением, как прежде. Она как будто заподозрила с моей стороны какой-то план утешения, от которого она, лелея свое новорожденное горе, восстала. «Вы говорите о будущем, — сказала она, — а настоящее для меня — все. Дай мне найти земное жилище любимого моего; спасем это от общей праха, чтобы в будущем люди могли указать на священную могилу и назвать ее своей - затем к другим мыслям и новому образу жизни, или к чему еще судьба в ее жестокой тирании может отметили для меня».
После короткого отдыха я приготовился покинуть ее, чтобы постараться исполнить ее желание. Тем временем к нам присоединилась Клара, чья бледная щека и испуганный взгляд показывали глубокое впечатление, которое горе произвело на ее юную душу. Она как будто была полна чего-то, чему не могла выразить словами; но, воспользовавшись случаем, предоставленным отсутствием Пердиты, она предпочла мне искреннюю молитву, чтобы я отвел ее в поле зрения ворот, через которые ее отец въехал в Константинополь. Она пообещала не совершать расточительности, быть послушной и немедленно вернуться. Я не мог отказаться; ибо Клара не была обычным ребенком; ее чувствительность и ум, казалось, уже наделили ее правами женственности. Поэтому вместе с ней, впереди меня, на моей лошади, в сопровождении только слуги, который должен был ее проводить, мы поехали к Верхнему Капу. Мы обнаружили группу солдат, собравшуюся вокруг него. Они слушали. «Это человеческие крики», — сказал один; «Больше похоже на собачий вой», — ответил другой; и снова они наклонились, чтобы услышать равномерные далекие стоны, доносившиеся из окрестностей разрушенного города. — Это, Клара, — сказал я, — ворота, та улица, по которой вчера проезжал ваш отец. Какими бы ни были намерения Клары просить, чтобы ее доставили сюда, присутствие солдат помешало этому. Серьезным взглядом она посмотрела на лабиринт дымящихся груд, бывший городом, а затем выразила готовность вернуться домой. В эту минуту до наших ушей донесся меланхолический вой; это повторилось; «Слушайте!» - воскликнула Клара. - Он здесь; это Флорио, собака моего отца. Мне казалось невероятным, что она могла узнать этот звук, но она настаивала на своем утверждении, пока не завоевала доверие окружающих. По крайней мере, это было бы милосердным действием — спасти страдальца, будь то человек или животное, от запустения города; Итак, отправив Клару обратно к ней домой, я снова въехал в Константинополь. Воодушевленные безнаказанностью сопровождающего во время моего предыдущего визита, меня сопровождали несколько солдат, входивших в состав телохранителей Раймунда, любивших его и искренне оплакивавших его утрату.
Невозможно представить себе странную цепочку событий, которая вернула безжизненное тело моего друга в наши руки. В той части города, где пожар сильнее всего бушевал прошлой ночью и которая теперь потухла, черная и холодная, умирающая собака Раймунда присела рядом с изуродованным телом своего господина. В такое время скорбь не имеет голоса; горе, укрощенное самой своей яростью, немо. Бедное животное узнало меня, лизнуло мою руку, подползло к своему хозяину и умерло. Очевидно, он был сброшен с лошади каким-то падающим обломком, который раздробил ему голову и изуродовал все его тело. Я наклонился над телом и взял в руку край его плаща, который выглядел менее изменившимся, чем человеческое тело, которое он облачал. Я прижал ее к губам, в то время как грубые солдаты собрались вокруг, оплакивая эту достойнейшую добычу смерти, как будто сожаление и бесконечный плач могли вновь осветить погасшую искру или призвать в свою разрушенную темницу плоти освобожденный дух. Вчера эти конечности стоили целой вселенной; затем они воплотили в себе трансцендентную силу, чьи намерения, слова и действия были достойны того, чтобы быть записанными золотыми буквами; теперь только суеверие привязанности могло придать ценность разрушенному механизму, который, будучи неспособным и похожим на комок, не более походил на Раймонда, чем выпавший дождь похож на прежний облачный особняк, в котором он взбирался на самые высокие небеса и позолоченный солнце, привлекало все взгляды и насыщало чувства избытком красоты.
Таким, каким он теперь стал, каким было его земное одеяние, испорченное и испорченное, мы завернули его в свои плащи и, подняв бремя на руки, понесли его из этого города мертвых. Встал вопрос, куда его девать. Дорога ко дворцу проходила через греческое кладбище; здесь, на скрижали из черного мрамора, я приказал положить его; кипарисы колыхались высоко над головой, их смертоносный мрак соответствовал его состоянию небытия. Мы срубили ветки погребальных деревьев и положили их на него, а на них снова его меч. Я оставил стражу охранять это сокровище пыли; и приказал жечь вокруг вечные факелы.
Вернувшись к Пердите, я обнаружил, что она уже проинформирована об успехе моего предприятия. Он, ее возлюбленный, единственный и вечный предмет ее страстной нежности, был возвращен ей. Таков был маниакальный язык ее энтузиазма. Что, хотя эти конечности не двигались, и эти губы больше не могли выражать модулированные акценты мудрости и любви! Хотя он, словно сорняк, выброшенный из бесплодного моря, стал добычей разложения, — тем не менее, это была форма, которую она ласкала, те губы, которые встретились с ее губами, испили дух любви из сливающегося дыхания; это был земной механизм из растворимой глины, который она называла своим. Правда, она рассчитывала на другую жизнь; правда, пылающий дух любви казался ей неугасимым во всю вечность. Однако в то время она с человеческой любовью цеплялась за все, что ее человеческие чувства позволяли ей видеть и чувствовать, как часть Рэймонда.
Бледная, как мрамор, прозрачная и сияющая, она выслушала мой рассказ и спросила, где его похоронили. Черты ее лица потеряли искажение горя; глаза ее просветлели, самое лицо ее казалось расширенным; а чрезмерная белизна и даже прозрачность ее кожи и что-то глухое в ее голосе свидетельствовали, что не спокойствие, а чрезмерное волнение вызвало предательское спокойствие, поселившееся на ее лице. Я спросил ее, где его похоронить. Она ответила: «В Афинах; даже в Афинах, которые он любил. За городом, на склоне Гиметта, есть каменистое углубление, которое он указал мне как место, где он хотел бы отдохнуть».
Моим собственным желанием, конечно, было, чтобы его не уносили с того места, где он сейчас лежал. Но ее желание, конечно, должно было быть выполнено; и я умолял ее без промедления подготовиться к нашему отъезду.
Вот, теперь печальный поезд пересекает равнины Фракии и петляет через ущелья и горы Македонии, плывет вдоль чистых волн Пенея, пересекает Лариссскую равнину, минует Фермопилский пролив и поднимается последовательно на Орту и Парнас. , спуститесь на плодородную равнину Афин. Женщины смиренно переносят эти затянувшиеся беды, но для нетерпеливого мужского духа медленное движение нашей кавалькады, меланхолический отдых, который мы обретали в полдень, постоянное присутствие покрова, каким бы великолепным он ни был, который укутывал нарезной гроб, в котором В то время как Раймонд содержал монотонную смену дня и ночи, неизменную ни надеждами, ни переменами, все обстоятельства нашего марша были невыносимы. Пердита, замкнувшись в себе, говорила мало. Ее карета была закрыта; а когда мы отдыхали, она сидела, подперев бледную щеку своей белой холодной рукой, устремив глаза в землю и предавшись мыслям, которые отказывались общаться или сочувствовать.
Мы спустились с Парнаса, выйдя из его многочисленных складок, и прошли через Ливадию по дороге в Аттику. Пердита не хотела войти в Афины; но, остановившись в Марафоне в ночь нашего прибытия, на следующий день отвела меня к месту, выбранному ею в качестве сокровищницы дорогих останков Раймунда. Он находился в углублении у истока ущелья к югу от Гиметта. Пропасть, глубокая, черная и седая, простиралась от вершины до подножия; в трещинах скалы рос миртовый подлесок и дикий тимьян, пища многих пчелиных народов; в расщелину торчали огромные скалы, одни нависали над ней, другие поднимались отвесно от нее. У подножия этой величественной пропасти простиралась плодородная смеющаяся долина, простиравшаяся от моря до моря, а за ней простиралось голубое Эгейское море, усеянное островами, с легкими волнами, скользящими под солнцем. Рядом с тем местом, на котором мы стояли, находилась одинокая скала, высокая и коническая, которая, отделенная со всех сторон от горы, казалась высеченной природой пирамидой; без особых усилий этот блок был доведен до идеальной формы; под ней была выкопана узкая келья, в которой поместили Раймунда, и короткая надпись, высеченная на живом камне, зафиксировала имя ее обитателя, причину и время его смерти.
Под моим руководством все делалось быстро. Я согласился поручить отделку и охрану гробницы главе афинского религиозного учреждения и к концу октября приготовился к возвращению в Англию. Я сказал об этом Пердите. Было больно, казалось, тащить ее из последней сцены, где говорилось о ее потерянном человеке; но задерживаться здесь было напрасно, и сама моя душа болела от стремления воссоединиться с моей Идрис и ее детьми. В ответ моя сестра попросила меня сопровождать ее на следующий вечер к могиле Раймунда. Прошло несколько дней с тех пор, как я посетил это место. Тропа к нему была расширена, и ступеньки, высеченные в скале, вели нас менее окольно, чем раньше, к самому месту; платформа, на которой стояла пирамида, была увеличена, и, глядя на юг, в нише, затененной разбросанными ветвями дикой смоковницы, я увидел вырытый фундамент и закрепленные подпорки и стропила, очевидно, начало строительства коттеджа; стоя на своем недостроенном пороге, гробница была по правую руку от нас, весь овраг, и равнина, и лазурное море тотчас пред нами; темные скалы озарялись заходящим солнцем, скользнувшим по возделываемой долине и окрашивавшим в багровый и оранжевый цвета спокойные волны; мы сидели на скалистом возвышении, и я с восторгом смотрел на прекрасную панораму живых и изменчивых красок, которые разнообразили и усиливали грацию земли и океана.
— Разве я не правильно поступила, — сказала Пердита, — что перевезла сюда моего любимого человека? В дальнейшем это станет центром Греции. В таком месте смерть теряет половину своих ужасов, и даже неодушевленная пыль кажется причастной духу красоты, освящающему этот край. Лайонел, он там спит; это могила Раймунда, того, кого я впервые полюбил в юности; кого мое сердце сопровождало в дни разлуки и гнева; с которым я теперь соединен навсегда. Никогда — запомните — никогда я не покину это место. Мне кажется, что его дух остался здесь, как и тот прах, который, каким бы непередаваемым он ни был, в своем небытии более ценен, чем все остальное, что овдовевшая земля прижимает к своей скорбящей груди. Кусты мирта, тимьян, маленький цикламен, выглядывающие из расщелин скалы, все продукты этого места родственны ему; свет, озаряющий холмы, причастен его сущности, а небо и горы, море и долина пропитаны присутствием его духа. Я буду жить и умру здесь!
«Отправляйся в Англию, Лайонел; вернись к милому Идрису и дорогому Адриану; возвращайся, и пусть моя сирота будет, как твое собственное дитя, в твоем доме. Смотри на меня как на мертвого; и поистине, если смерть будет просто изменением состояния, то я мертв. Это другой мир, не тот, в котором раньше я жил, не тот, который сейчас твой дом. Здесь я общаюсь только с тем, что было и будет. Отправляйтесь в Англию и оставьте меня там, где я один могу согласиться тянуть те несчастные дни, которые мне еще предстоит прожить».
Дождь слез прервал ее печальную речь. Я ожидал какого-нибудь экстравагантного предложения и некоторое время молчал, собираясь с мыслями, чтобы лучше противостоять ее причудливому замыслу. — Ты лелеешь мрачные мысли, моя дорогая Пердита, — сказал я, — и я не удивляюсь, что на какое-то время твой лучший разум окажется под влиянием страстного горя и расстроенного воображения. Даже я влюблен в этот последний дом Рэймонда; тем не менее мы должны отказаться от этого».
«Я этого ожидала», — воскликнула Пердита; «Я предполагал, что ты отнесешься ко мне как к сумасшедшей и глупой девчонке. Но не обманывайте себя; этот коттедж построен по моему заказу; и здесь я останусь, пока не наступит час, когда я смогу разделить его более счастливое жилище».
«Моя любимая девочка!»
«И что такого странного в моей конструкции? Я мог бы обмануть тебя; Я мог бы говорить о том, чтобы остаться здесь всего на несколько месяцев; в своем стремлении добраться до Виндзора вы бы оставили меня, и я без упреков и разногласий мог бы осуществить свой план. Но я презирал эту уловку; или, вернее, в моем несчастье единственным утешением для меня было излить свое сердце тебе, брат мой, единственный друг мой. Вы не будете со мной спорить? Ты знаешь, насколько своенравна твоя бедная, несчастная сестра. Возьми с собой мою девушку; отучить ее от зрелищ и мыслей о печали; пусть инфантильное веселье вновь посетит ее сердце и оживит ее глаза; так не могло бы быть, если бы она была рядом со мной; для всех вас будет гораздо лучше, если вы никогда больше меня не увидите. Для себя я добровольно не буду искать смерти, то есть не буду, пока могу повелевать собою; и я могу здесь. Но вытащите меня из этой страны; и моя сила самоконтроля исчезает, и я не могу отвечать за насилие, к которому меня может привести агония горя».
«Ты облекаешь свой смысл, Пердита, — ответил я, — в сильные слова, однако этот смысл эгоистичен и недостоин тебя. Вы часто соглашались со мной, что есть только одно решение сложной загадки жизни; совершенствовать себя и способствовать счастью других: и вот, в самом расцвете сил, вы оставляете свои принципы и замыкаетесь в бесполезном одиночестве. Будете ли вы меньше думать о Раймонде в Виндзоре, месте вашего раннего счастья? Будете ли вы меньше общаться с его ушедшим духом, одновременно наблюдая и развивая редкое превосходство его ребенка? Вас посетила печаль; Я не удивляюсь и тому, что чувство, похожее на безумие, должно толкать вас на горькие и неразумные фантазии. Но дом любви ждет вас в вашей родной Англии. Моя нежность и привязанность должны вас успокоить; общество друзей Раймунда принесет больше утешения, чем эти унылые размышления. Мы все постараемся сделать так, чтобы наша главная забота и наша самая дорогая задача способствовали вашему счастью».
Пердита покачала головой; «Если бы это было так, — ответила она, — я была бы очень неправа, пренебрегая вашими предложениями. Но это не вопрос выбора; Я могу жить только здесь. Я часть этой сцены; каждое и все его свойства являются частью меня. Это не внезапная фантазия; Я живу этим. Сознание того, что я здесь, приходит ко мне утром и дает мне возможность выдержать свет; оно смешано с моей пищей, которая в противном случае была бы ядом; оно ходит, оно спит со мной, оно всегда сопровождает меня. Здесь я могу даже перестать роптать и добавить свое запоздалое согласие к указу, который отнял его у меня. Он скорее предпочел бы умереть такой смертью, которая будет записана в истории на бесконечное время, чем дожить до старости неизвестной, непочтенной. И я не могу желать лучшего, чем, будучи избранником и возлюбленным его сердца, здесь, в расцвете юности, до того, как последующие годы смогут запятнать лучшие чувства моей натуры, охранять его могилу и быстро воссоединиться с ним в его благословенном упокоении.
— Вот так много, мой дорогой Лайонел, я сказал, желая убедить тебя, что я поступаю правильно. Если вы не убеждены, я не могу ничего добавить в качестве аргумента и могу только заявить о своей твердой решимости. Я остаюсь здесь; только сила может удалить меня. Да будет так; утащи меня — я вернусь; заключи меня, заключи меня в тюрьму, но я все равно убегу и приду сюда. Или мой брат предпочел бы предать убитую горем Пердиту соломе и цепям маньяка, чем позволить ей покоиться с миром под сенью Его общества, в этом моем избранном и любимом уединении?»—
Все это казалось мне, я признаю, методическим безумием. Я воображал, что моим императивным долгом было увести ее от сцен, которые таким образом насильно напоминали ей о ее утрате. Я также не сомневался, что в спокойствии нашего семейного круга в Виндзоре она обретет некоторую степень самообладания и, в конце концов, счастья. Моя привязанность к Кларе также побудила меня противостоять этим нежным мечтам о заветном горе; ее чувствительность уже была слишком возбуждена; ее детская беспечность слишком скоро сменилась глубокими и тревожными размышлениями. Странный и романтический замысел ее матери мог подтвердить и увековечить болезненный взгляд на жизнь, который так рано вторгся в ее размышления.
По возвращении домой капитан парохода, с которым я договорился плыть, пришел сообщить мне, что случайные обстоятельства ускорили его отъезд и что, если я пойду с ним, я должен подняться на борт в пять утра следующего дня. . Я поспешно дал свое согласие на это соглашение и так же поспешно разработал план, согласно которому Пердиту следует заставить стать моей спутницей. Я считаю, что большинство людей в моей ситуации поступило бы точно так же. Однако это соображение не уменьшило, или, скорее, не уменьшило в дальнейшем упреков моей совести. В тот момент я был убежден, что действую из лучших побуждений и что все, что я делаю, правильно и даже необходимо.
Я сидел рядом с Пердитой и успокаивал ее, по-видимому, соглашаясь на ее безумный замысел. Она с удовольствием приняла мое согласие и тысячу раз поблагодарила своего лживого, лживого брата. С наступлением ночи ее настроение, воодушевленное моей неожиданной уступкой, вновь обрело почти забытую бодрость. Я притворился, что встревожен лихорадочным румянцем ее щек; Я умолял ее принять сочиняющий глоток; Я вылил лекарство, которое она послушно взяла у меня. Я наблюдал за ней, пока она пила. Ложь и хитрость сами по себе настолько ненавистны, что, хотя я все еще считал, что поступил правильно, меня мучительно охватило чувство стыда и вины. Я оставил ее и вскоре услышал, что она крепко спит под действием введенного мной опиата. Таким образом, ее перенесли на борт без сознания; якорь был тяжелый, а ветер был попутным, и мы стояли далеко в море; со всем расправленным полотном и с помощью мощности двигателя мы быстро и уверенно пронеслись сквозь натертый элемент.
Проснулась Пердита уже поздно, и прошло больше времени, прежде чем она оправилась от оцепенения, вызванного лауданумом, и почувствовала изменение ситуации. Она дико вскочила с дивана и полетела к окну каюты. Синее и взволнованное море проносилось мимо судна и раскинулось вокруг безбрежно: небо было покрыто решеткой, которая своим стремительным движением показывала, как быстро оно уносилось. Скрип мачт, лязг колес, топот наверху — все убедило ее, что она уже далеко от берегов Греции. — «Где мы?» воскликнула она: «Куда мы идем?»—
Служитель, которого я поставил присматривать за ней, ответил: «В Англию».
«А мой брат?»—
«На палубе, мадам».
«Недоброжелательно! недобрый!» воскликнула бедная жертва, с глубоким вздохом глядя на пустыню воды. Затем, не говоря ни слова, она бросилась на кушетку и, закрыв глаза, осталась неподвижной; так что если бы не вырвавшиеся у нее глубокие вздохи, казалось бы, она спала.
Как только я услышал, что она заговорила, я послал к ней Клару, чтобы вид прекрасной невинной навеял нежные и ласковые мысли. Но ни присутствие ребенка, ни последующий мой визит не смогли разбудить сестру. Она посмотрела на Клару с выражением горестного значения, но ничего не сказала. Когда я появился, она отвернулась и в ответ на мои вопросы только сказала: «Вы не знаете, что вы натворили!» она смирится со своей судьбой.
Когда наступила ночь, она попросила Клару спать в отдельной каюте. Однако ее слуга остался с ней. Около полуночи она заговорила с последней, сказав, что ей приснился дурной сон, и велела ей пойти к дочери и сообщить, спокойно ли она отдохнула. Женщина повиновалась.
Ветер, утихший после захода солнца, теперь снова усилился. Я был на палубе и наслаждался нашим быстрым продвижением. Тишину нарушал только шум воды, разделявшейся перед устойчивым килем, гул неподвижных и полных парусов, свист ветра в вантах и размеренное движение двигателя. Море слегка волновалось, то показывая белый гребень, то снова приобретая однородный оттенок; облака исчезли; и темный эфир очерчивал широкий океан, в котором созвездия тщетно искали свое привычное зеркало. Наша скорость не могла быть меньше восьми узлов.
Вдруг я услышал плеск в море. Вахтенные матросы с криком бросились к борту судна — кто-то ушел за борт. «Это не с палубы, — сказал рулевой, — из кормовой каюты что-то выбросили». С палубы раздался призыв спустить лодку. Я бросился в каюту сестры; там было пусто.
С поднятыми парусами и выключенным двигателем судно неохотно оставалось на месте, пока после часовых поисков на борт не была поднята моя бедная Пердита. Но никакая помощь не могла вернуть ее к жизни, никакие лекарства не заставили ее дорогие глазки открыться и кровь снова потекла из ее лишенного пульса сердца. В одной сжатой руке был листок бумаги, на котором было написано: «В Афины». Чтобы обеспечить ее переезд туда и предотвратить безвозвратную потерю ее тела в открытом море, она предусмотрительно привязала длинную шаль вокруг талии, а затем к стойкам окна каюты. Ее несколько дрейфовало под килем судна, и ее отсутствие из виду привело к задержке ее обнаружения. Так злополучная девушка стала жертвой моей бессмысленной опрометчивости. Таким образом, рано утром она покинула нас ради компании мертвых и предпочла разделить каменную могилу Раймунда перед оживленной сценой, которую представляла эта веселая земля, и обществом любящих друзей. Так она умерла на двадцать девятом году жизни; она несколько лет наслаждалась райским счастьем и пережила неудачу, которой ее нетерпеливый дух и нежный характер не смогли стерпеть. Когда я заметил спокойное выражение, закрепившееся на ее лице после смерти, я почувствовал, несмотря на муки раскаяния, несмотря на истошное сожаление, что лучше так умереть, чем тянуть долгие, несчастные годы. ропота и безутешного горя. Непогода погнала нас вверх по Адриатическому заливу; и, поскольку наше судно было едва приспособлено для того, чтобы выдержать шторм, мы укрылись в порту Анконы. Здесь я встретил Джорджио Палли, вице-адмирала греческого флота, бывшего друга и горячего сторонника Раймунда. Я передал ему на попечение останки моей потерянной Пердиты, чтобы они были перевезены в Гиметт, и поместил ее Раймонду в келью, уже занятую под пирамидой. Все это было сделано так, как я хотел. Она покоилась рядом со своим возлюбленным, а на могиле выше были написаны объединенные имена Раймонда и Пердиты.
Затем я принял решение продолжить путешествие в Англию по суше. Мое собственное сердце разрывалось от сожалений и раскаяния. Сознание, что Раймон ушел навсегда, что его имя, навсегда смешанное с прошлым, должно быть стерто из всякого предвкушения будущего, медленно охватывало меня. Я всегда восхищался его талантами; его благородные стремления; его грандиозные представления о славе и величии своих амбиций: его полное отсутствие низких страстей; его сила духа и смелость. В Греции я научился любить его; само его своенравие и самоотдача порывам суеверия привязывали меня к нему вдвойне; возможно, это была слабость, но это был антипод всего униженного и эгоистичного. К этим мукам добавилась потеря Пердиты, потерянной из-за моего проклятого своеволия и тщеславия. Этот дорогой, мой единственный родственник; чей прогресс я отмечал с нежного детства на разнообразном жизненном пути и повсюду видел, что она отличалась честностью, преданностью и истинной привязанностью; несмотря на все то, что составляет особую грацию женского характера, и увидев ее наконец жертвой слишком сильной любви, слишком постоянной привязанности к бренному и потерянному, она, в своей гордости красотой и жизнью, отбросила приятное восприятие видимого мира ради нереальности могилы и оставил бедную Клару сиротой. Я скрыла от этого любимого ребенка, что смерть ее матери была добровольной, и старалась всеми средствами пробудить бодрость в ее скорбящей душе.
Одним из первых моих действий по восстановлению хотя бы собственного самообладания было прощание с морем. Его ненавистный всплеск снова и снова возобновлял для меня смерть моей сестры; его рев был панихидой; в каждом темном корпусе, брошенном на его непостоянную грудь, я представлял себе носилки, которые предадут смерти всех, кто поверит его предательским улыбкам. Прощай, море! Ну, моя Клара, сядь рядом со мной в этом воздушном баре; быстро и нежно он рассекает безмятежную лазурь и мягкими волнами скользит по потоку воздуха; или, если буря потрясет его хрупкий механизм, внизу окажется зеленая земля; мы можем спуститься и укрыться на стабильном континенте. Здесь, высоко, спутники быстрокрылых птиц, мы несемся сквозь не сопротивляющуюся стихию быстро и бесстрашно. Легкая лодка не вздымается, и ей не противостоят смертоносные волны; эфир раскрывается перед носом, и тень шара, поддерживающая его, укрывает нас от полуденного солнца. Внизу простираются равнины Италии или обширные холмы волнообразных Апеннин: плодородие покоится в их многочисленных складках, а вершины венчают леса. Свободный и счастливый крестьянин, освобожденный от австрийских оков, несет в житницу двойной урожай; и утонченные граждане без страха выращивают давно загнившее дерево познания в этом саду мира. Мы были подняты над альпийскими вершинами, из их глубоких и бурных ущелий вышли на равнину прекрасной Франции и после шестидневного воздушного путешествия приземлились в Дьеппе, сложили пернатые крылья и закрыли шелковый шар нашей маленькой лодки. . Сильный дождь сделал этот способ путешествия теперь неудобным; поэтому мы погрузились в пароход и после короткого перехода приземлились в Портсмуте.
Здесь произошла странная история. За несколько дней до этого из города появилось пострадавшее от бури судно: корпус был высохший и потрескавшийся, паруса порваны и изогнуты небрежно, не по-мореходски, ванты запутались и сломались. Она двинулась к гавани и застряла на песке у входа. Утром к ней пришли таможенники вместе с толпой бездельников. Похоже, вместе с ней прибыл только один из членов экипажа. Он добрался до берега, прошел несколько шагов в сторону города, а затем, одолеваемый болезнью и приближающейся смертью, упал на негостеприимный пляж. Он был найден напряженным, его руки были сжаты и прижаты к груди. Его почти черная кожа, спутанные волосы и щетинистая борода были признаками затянувшихся страданий. Ходили слухи, что он умер от чумы. Никто не осмеливался подняться на борт судна, и, как утверждали, ночью можно было увидеть странные зрелища, прогуливающиеся по палубе и висящие на мачтах и вантах. Вскоре она развалилась на части; Мне показали, где она была, и я увидел ее разрозненные бревна, брошенные волнами. Тело приземлившегося человека было похоронено глубоко в песке; и никто не мог сказать больше, чем то, что судно было построено в Америке и что за несколько месяцев до этого «Фортунатас» отплыли из Филадельфии, о чем впоследствии не было получено никаких известий.
О книжной серии HackerNoon: мы предлагаем вам наиболее важные технические, научные и познавательные книги, являющиеся общественным достоянием.
Эта книга является общественным достоянием. Мэри Уолстонкрафт Шелли (2006). Последний человек. Урбана, Иллинойс: Проект Гутенберг. Получено https://www.gutenberg.org/cache/epub/ 18247/pg18247-images.html
Эта электронная книга предназначена для использования кем угодно и где угодно, бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать ее, отдать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, включенной в данную электронную книгу или на сайте www.gutenberg.org< /a>, расположенный по адресу https://www.gutenberg.org/policy/license.html.. эм>
Оригинал

