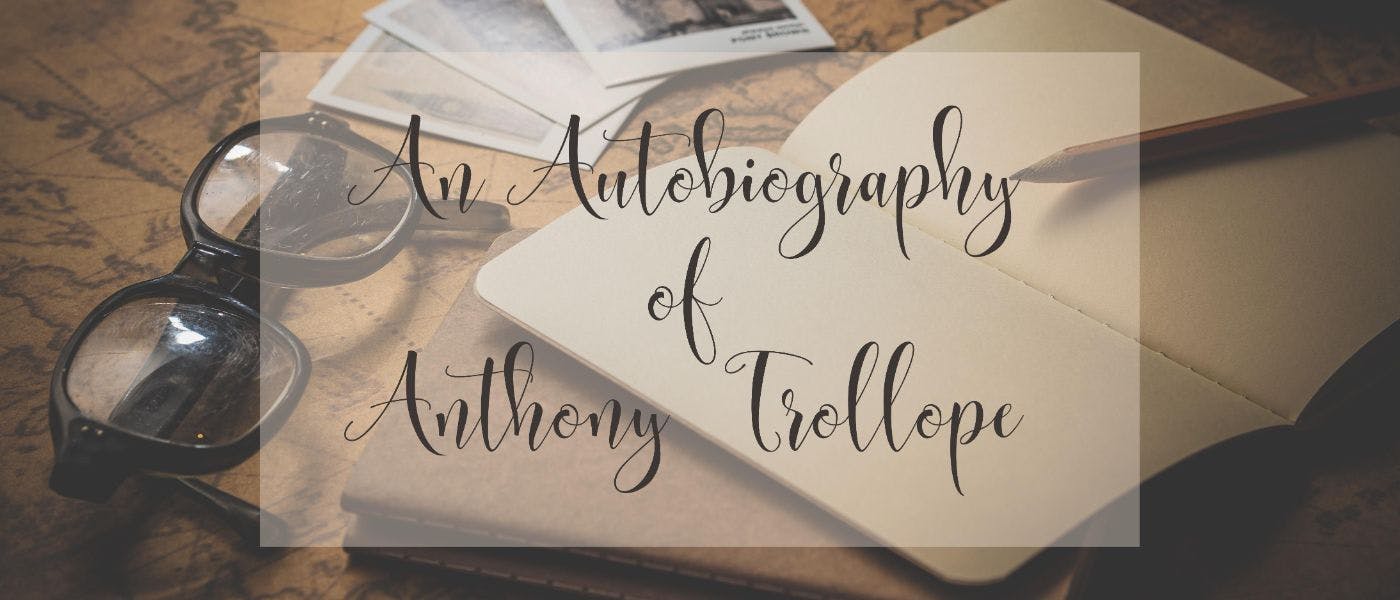
ГЛАВНЫЙ ПОЧТАМ.1834-1841.
12 сентября 2023 г.Автобиография Энтони Троллопа, написанная Энтони Троллопом, входит в серию книг HackerNoon. Вы можете перейти к любой главе этой книги здесь. ГЛАВНЫЙ ПОЧТАМ.1834-1841.
Главное почтовое отделение. 1834-1841.
Когда я еще учился выполнять обязанности швейцара в школе мистера Друри в Брюсселе, меня вызвали на должность клерка в лондонском почтовом отделении, и по пути я проезжал через Брюгге. Затем я в последний раз увидел своего отца и брата Генри. Более печальной семьи никогда не было вместе. Они все умирали; кроме моей матери, которая ночь за ночью сидела, ухаживая за умирающими и одновременно сочиняя романы, — чтобы у них была приличная крыша, под которой они могли бы умереть. Если бы ей не удалось написать романы, я не знаю, где бы нашлась крыша. Прошло уже более сорока лет, и, оглядываясь назад на столь долгий промежуток времени, я могу рассказать эту историю, хотя это и история моих собственных отца и матери, моих собственных брата и сестры, почти так же холодно, как я часто изображал в художественной литературе какую-нибудь сцену намеренного пафоса; но эта сцена действительно была полна пафоса. Тогда я начал осознавать губительные амбиции жизни моего отца, а также осознавать жестокость напряжения, которое терпела моя мать. Но я ничего не мог сделать, кроме как пойти и оставить их. Было что-то утешающее меня в мысли, что мне больше не нужно быть обузой, — идея ошибочная, как вскоре выяснилось. Моя зарплата должна была составлять 90 фунтов в год, и на эту сумму я должен был жить в Лондоне, поддерживать свой джентльменский характер и быть счастливым. То, что я считал это возможным в девятнадцать лет и радовался возможности предпринять такую попытку, сейчас меня не удивляет; но то, что другие, друзья, кое-что знающие о мире, считали это возможным, меня действительно удивляет. Без сомнения, это мог бы сделать или мог бы сделать это даже в наши дни юноша, о котором должным образом заботились и держали под контролем, и от имени которого был установлен какой-то закон жизни. Пусть он платит столько-то в неделю за еду и жилье, столько-то за одежду, столько-то за стирку, и тогда пусть он поймет, что у него, скажем так, остается шесть пенсов в день на карманные деньги и омнибусы. Любой, кто подсчитает, найдет шесть пенсов слишком большой суммой. Ни для меня, ни мной такой расчет не производился. Предполагалось, что мне обеспечен достаточный доход и что я буду жить на него, как живут другие чиновники.
Но 90 фунтов в год мне еще не были обеспечены. Достигнув Лондона, я отправился к своему другу Клейтону Фрилингу, который тогда был секретарем гербового бюро, и он отвез меня к месту моих будущих родов в Сен-Мартен-ле-Гран. Сэр Фрэнсис Фрилинг был секретарем, но он был слишком высокопоставленным чиновником, чтобы его мог сразу увидеть новый младший секретарь. Поэтому меня отвезли к его старшему сыну Генри Фрилингу, который был помощником секретаря, и он проверил меня на предмет моей годности. История этого экзамена подробно изложена в одной из первых глав написанного мной романа под названием Три клерка. Если кто-нибудь из читателей этих мемуаров обратится к этой главе и увидит, как Чарли Тюдор должен был быть принят в Управление внутренней навигации, этот читатель узнает, как Энтони Троллоп на самом деле был принят в кабинет секретаря Главпочтамта в 1834 году. Меня попросили скопировать несколько строк из газеты Times старым гусиным пером, и я сразу же сделал ряд помарок и неправильных написаний. «Знаете, так не пойдет», — сказал Генри Фрилинг своему брату Клейтону. Клейтон, который был моим другом, сказал, что я нервничаю, и попросил, чтобы мне разрешили немного написать дома и принести это в качестве образца на следующий день. Затем меня спросили, владею ли я арифметикой. Что я мог сказать? Я никогда не изучал таблицу умножения и имел представление о правиле трех не больше, чем о конических сечениях. «Я кое-что знаю об этом», - смиренно сказал я, после чего меня строго заверили, что если мне удастся доказать, что мой почерк соответствует всем требованиям, то завтра меня проверят на предмет этой небольшой арифметики. Если бы это немногое не заключало в себе глубокое знание всех обычных правил вместе с отработанными и быстрыми навыками, моя жизненная карьера не могла бы быть сделана на почте. Спускаясь по главной лестнице здания — лестнице, которую, как я полагаю, сейчас снесли, чтобы освободить место для сортировщиков и штамповщиков, — Клейтон Фрилинг посоветовал мне не слишком унывать. Я сам был склонен думать, что мне лучше вернуться в школу в Брюсселе. Но тем не менее я пошел на работу и под наблюдением старшего брата сделал красивую расшифровку Гиббона на четырех-пяти страницах. С замиранием сердца я на следующий день отнес их в офис. Своей каллиграфией я был доволен, но был уверен, что окажусь на земле среди фигур. Но когда я добрался до «Гранд», как мы в те дни называли наш офис, из его офиса в Сен-Мартен-ле-Гран, меня усадили за стол без каких-либо дальнейших указаний на мою компетентность. Никто не снисходил даже до взгляда на мой прекрасный почерк.
Именно так оценивали кандидатов на государственную службу в мои молодые годы. Во всяком случае, меня обследовали именно так. С того времени действительно произошли очень большие перемены и в некоторых отношениях значительное улучшение. Но что касается абсолютной пригодности молодых людей, отобранных для государственной службы, я сомневаюсь, что это не принесло больше вреда, чем пользы. И я думаю, что добро можно было сделать и без вреда. Сегодняшние правила таковы, что каждое место должно быть открыто для публичного конкурса и что оно должно быть отдано лучшим из желающих. Я возражаю против этого, утверждая, что в настоящее время не существует известного способа узнать, кто является лучшим, и что используемый метод не имеет тенденции выявить лучшее. Этот метод претендует лишь на то, чтобы решить, кто из определенного числа ребят лучше всего ответит на ряд вопросов, к ответам на которые их готовят наставники, возникшие для этой цели с тех пор, как был принят этот способ выборов. Когда в семье решают, что мальчик должен «попробовать себя на государственной службе», его заставляют пройти определенную зубрежку. Но такое обращение, я утверждаю, не имеет никакой связи с образованием. После этого юноша не лучше подготовлен к будущей работе всей своей жизни, чем раньше. Но самый успех его наполняет его ложными представлениями о собственном образовательном положении и пока что ему не подходит. И согласно плану, который сейчас в моде, получилось так, что никто на самом деле не несет ответственности ни за поведение, ни манеры, ни даже за характер молодого человека. Раньше ответственность, возможно, была незначительной; но существовал, и его число росло.
Возможно, когда-нибудь в будущем, когда мудрость еще возрастет, возможно, будет существовать отдел, созданный для проверки пригодности помощников, не прибегая к опасному оптимизму конкурентного выбора. Я не скажу, но что должен был быть кто-то, кто меня отвергнет, - хотя я имею смелость сказать, что, если бы меня так отвергли, государственная служба потеряла бы ценного государственного служащего. Это утверждение, я думаю, не будет опровергнуто теми, кто после моего ухода сможет вспомнить хоть что-нибудь из моей работы. Конечно, не следует допускать к себе парней, не имеющих ни одного из желаемых мелких приобретений. Наши офисы не должны быть школами, в которых следует изучать письмо и ранние уроки географии, арифметики или французского языка. Но все это можно выяснить, не опасаясь конкурсных экзаменов.
Желание обеспечить эффективность отобранных молодых людей не было единственной целью — возможно, не главной целью — тех, кто уступил в этом вопросе аргументам реформаторов. В Англии возникла система патронажа, при которой политикам постепенно стало необходимо использовать свое влияние для приобретения политической поддержки. Член Палаты общин, занимавший этот пост, который мог бы раздать пять должностей клерков в течение года, оказался вынужден распределить их между теми, кто послал его в Палату. В этом не было ничего приятного распространителю патронажа. Покончите с системой вообще, и у него будет столько же шансов на поддержку, как и у другого. Он обменял свое покровительство только потому, что другой сделал то же самое. Просьбы, отказы, ревность, переписка были просто хлопотными. Поэтому джентльмены, занимающие государственные посты, не были не склонны избавляться от покровительства. Я не сомневаюсь, что их руки чище, а на сердце легче; но я сомневаюсь, что офисы в целом укомплектованы лучше.
Поскольку то, что я сейчас пишу, наверняка никогда не будет прочитано, пока я не умру, я могу осмелиться сказать то, что никто сейчас не осмеливается сказать в печати, - хотя некоторые из нас время от времени шепчут это на ухо нашим друзьям. В жизни есть места, которые вряд ли можно хорошо заполнить, кроме как «Джентльменами». Это слово является тем словом, употребление которого почти подвергает человека позору. Если я говорю, что судьей должен быть джентльмен или епископ, меня встречают презрительным намеком на «джентльменов природы». Если бы я сделал такое утверждение в отношении Палаты общин, ничто из того, что я когда-либо сказал снова, не привлекло бы ни малейшего внимания. Человек в общественной жизни не мог бы причинить себе большего вреда, чем публично заявить, что должности в армии или на флоте, а также места на государственной службе должны предоставляться исключительно джентльменам. Ему не дадут дать определение этому термину, и он потерпит неудачу, если попытается это сделать. Но он поймет, что имеет в виду, и, вполне вероятно, поймут и те, кто бросил ему вызов. Возможно, сын деревенского мясника станет так же хорошо приспособлен для занятий, требующих благородной культуры, как и сын пастора. Такое часто бывает. В этом случае никто не был более склонен оказать сыну мясника тот прием, которого он заслужил, чем я сам; но шансы в большей степени в пользу сына пастора. Ворота одного класса должны быть открыты для другого; но ни тому, ни другому классу нельзя принести пользы, заявив, что нет ни ворот, ни преград, ни различий. Я думаю, что система конкурсных экзаменов основана на предположении, что разницы нет.
Я попал на свое место без всякого осмотра. Оглядываясь назад, я думаю, что могу с точностью увидеть, каково было тогда состояние моего ума и интеллекта. О вещах, которые нужно было усвоить на уроках, я знал почти меньше, чем можно было предположить после такого количества образования, которое я получил. Я не мог читать ни по-французски, ни по-латыни, ни по-гречески. Я не мог говорить ни на каком иностранном языке, и я могу с таким же успехом сказать здесь, как и везде, что я так и не научился по-настоящему говорить по-французски. Мне удалось заказать ужин и взять железнодорожный билет, но ничего большего я не добился. В самых элементарных науках я был совершенно невежественен. Почерк у меня был действительно ужасный. Мое правописание было несовершенным. Не было такого предмета, по которому можно было бы сдать экзамен, по которому я мог бы выдержать экзамен иначе, как с позором. И все же я думаю, что знал больше, чем средний молодой человек того же ранга, начавший жизнь в девятнадцать лет. Я мог бы дать более полный список имен поэтов всех стран с их сюжетами и периодами, а также, вероятно, и историков, чем многие другие; и, возможно, имел более точное представление о том, как управлялась моя собственная страна. Я знал имена всех епископов, всех судей, всех глав коллегий и всех членов кабинета министров — действительно, не очень полезное знание, но такое, которое нельзя было приобрести без другого, более полезного материала. Я читал Шекспира, Байрона и Скотта и мог о них говорить. Музыка линии Miltonic была мне знакома. Я уже решил, что Гордость и предубеждение — лучший роман на английском языке, пальма первенства, от которой я лишь частично отказался после второго чтения Айвенго, и не распространялся полностью до тех пор, пока не был написан Эсмонд. И хотя время от времени у меня были проблемы с правописанием, я мог написать письмо. Если бы мне было что сказать, я мог бы сказать это письменно, чтобы читатели поняли, что я имею в виду, — сила, которая никоим образом не находится в распоряжении всех тех, кто с триумфом выходит из этих конкурсных экзаменов. В раннем возрасте, в пятнадцать лет, у меня появилась опасная привычка вести дневник, и я сохранял ее в течение десяти лет. Тома оставались в моем распоряжении без внимания — никогда не просматривались — до 1870 года, когда я изучил их и, покраснев, уничтожил их. Они уличили меня в глупости, невежестве, неосмотрительности, праздности, расточительности и тщеславии. Но они приучили меня к быстрому использованию пера и чернил и научили легко выражать свои мысли.
Я упомяну здесь еще одну привычку, которая развилась во мне еще в более ранние годы, на которую я сам часто смотрел с тревогой, когда думал о часах, посвященных ей, но которая, я полагаю, должна была иметь тенденцию делать меня тем, кем я был. . В детстве, даже в детстве, я был слишком сильно на себя возложен. Говоря о своих школьных годах, я объяснил, как так получилось, что другие мальчики не играли со мной. Поэтому я был один и должен был строить свои пьесы внутри себя. Какая-то игра была мне нужна тогда, как и всегда. Учеба не была моей склонностью, и я не мог доставлять себе удовольствие, праздно проводя время. Так получилось, что я всегда действовал с каким-то воздушным замком, прочно построенным в моем сознании. И эти усилия в архитектуре не были скачками и не подвергались постоянным изменениям изо дня в день. Неделями, месяцами, если я правильно помню, из года в год я вел одну и ту же историю, связывая себя определенными законами, определенными пропорциями, приличиями и единствами. Никогда не было предложено ничего невозможного и даже ничего такого, что из внешних обстоятельств могло бы показаться крайне невероятным. Я сам, конечно, был своим собственным героем. Такова необходимость строительства замков. Но я так и не стал королем или герцогом, и тем более, если бы мой рост и внешний вид были фиксированы, я не мог бы быть Антиноем или ростом в шесть футов. Я никогда не был ни ученым человеком, ни даже философом. Но я был очень умным человеком, и красивые молодые женщины любили меня. И я старался быть добрым сердцем, открытым руками и благородным в мыслях, презирая низкие вещи; и в целом я был гораздо лучшим парнем, чем мне когда-либо удавалось быть с тех пор. Это было занятием моей жизни в течение шести или семи лет до того, как я пошел на почту, и ни в коем случае не оставлялось, когда я приступил к работе. Я думаю, вряд ли может быть более опасная умственная практика; но я часто сомневался, написал бы я когда-нибудь роман, если бы это не было моей практикой. Таким образом я научился поддерживать интерес к вымышленной истории, останавливаться на произведении, созданном моим собственным воображением, и жить в мире, совершенно находящемся за пределами мира моей собственной материальной жизни. Спустя годы я сделал то же самое, с той лишь разницей, что отказался от героя своих ранних снов и смог отказаться от своей собственной личности.
Я должен, конечно, признать, что первые семь лет моей официальной жизни не были ни похвальными для меня, ни полезными для государственной службы. Эти семь лет прошли в Лондоне, и в этот период моей жизни моей обязанностью было каждое утро присутствовать в офисе ровно в 10 часов утра. Я думаю, что мои ссоры с тамошними властями начались с того, что у меня были часы, которые всегда опаздывали на десять минут. Я знаю, что очень скоро я приобрел репутацию нерегулярного человека и стал считаться паршивой овцой среди людей вокруг меня, которые сами, я думаю, не были очень хорошими государственными служащими. Время от времени до меня доходили слухи, что, если я не позаботлюсь, меня уволят; особенно один слух в мои ранние годы, переданный моей горячо любимой подругой миссис Клейтон Фрилинг, которая, когда я пишу это, еще жива и со слезами на глазах умоляла меня подумать о моей матери. Это было при жизни сэра Фрэнсиса Фрилинга, который умер, все еще находясь в упряжке, чуть более чем через двенадцать месяцев после того, как я поступил на службу. И все же старик выказывал мне знаки почти нежной доброты, не раз писал мне собственноручно со смертного одра.
На почте сэра Фрэнсиса Фрилинга сопровождал полковник Маберли, который определенно не был моим другом. Не знаю, заслужил ли я найти себе друга в лице моего нового хозяина, но думаю, что человек здравомыслящий не составил бы обо мне столь низкого мнения, как он. Прошли годы, и теперь я могу писать и почти чувствовать без гнева; но я хорошо помню остроту моей тоски, когда со мной обращались так, будто я не годен ни для какой полезной работы. Я боролся — не для того, чтобы выполнить работу, поскольку не было ничего, что было бы нелегко без борьбы, — а для того, чтобы показать, что я готов ее делать. Тем не менее мой плохой характер приклеился ко мне, и от него невозможно было избавиться никакими усилиями, которые были в моих силах. Я признаю, что я был нерегулярным. Не в мою пользу считалось, что я умею писать письма (а это в основном была работа нашей конторы) быстро, правильно и по назначению. Передо мной предпочитали человека, который приходил в десять и который всегда был за столом в половине пятого, хотя за столом он мог быть менее эффективным. Такое предпочтение, несомненно, было правильным; но, если бы меня немного поддержали, я бы тоже был пунктуален. Я получил признание ни за что и поступил безрассудно.
А так поведение некоторых из нас было очень плохим. Наверху располагалась удобная гостиная, предназначенная для кого-то из нашего числа, который, в свою очередь, должен был оставаться там всю ночь. Сюда один или двое из нас уходили после обеда и играли в écarté час или два. Я не знаю, возможны ли сейчас такие пути в наших государственных учреждениях. И здесь мы устраивали ужины и карточные вечеринки по ночам — большие симпозиумы, с большим количеством курения табака; ибо в нашей части здания жила целая стайка приказчиков. Это были джентльмены, в обязанности которых входило оформление и получение иностранных корреспонденций. Я не помню, чтобы они работали позже или раньше других сортировщиков; но в иностранных письмах должно было быть что-то особенное, что требовало, чтобы люди, которые их писали, не отвлекались на внешний мир. Их жалованье также было выше, чем у их более невзрачных собратьев; и они ничего не заплатили за свое жилье. Следовательно, в этих квартирах был довольно быстрый набор, склонный к картам и табаку, который пил спиртные напитки и воду, предпочитая чай. Я не был одним из них, но имел с ними хорошие отношения.
Я не уверен, что мне стоит заинтересовать моих читателей рассказом о моем опыте работы в почтовом отделении в те дни. Я всегда был накануне увольнения, но всегда стремился показать, насколько хорошим государственным служащим я мог бы стать, если бы мне был предоставлен шанс. Но шанс пошел не в ту сторону. Однажды при исполнении служебных обязанностей мне пришлось положить на стол секретаря частное письмо с банкнотами, которое я как следует вскрыл, так как оно не было помечено как личное. Полковник увидел письмо, но не переместил его, когда вышел из комнаты. По возвращении его уже не было. Тем временем я вернулся в комнату, снова исполняя какие-то обязанности. Когда письмо пропало, за мной послали, и там я нашел полковника, очень взволнованного его письмом, и некоего старшего клерка, который с вытянутым лицом высказывал предположения относительно вероятной судьбы денег. «Письмо забрали, — сказал полковник, сердито повернувшись ко мне, — и, ей-богу, в комнате не было никого, кроме тебя и меня». Говоря это, он с грохотом ударил кулаком по столу. «Тогда, — сказал я, — черт возьми, вы его взяли». И я тоже ударил кулаком, но случайно не по столу. Там стоял передвижной стол, за которым, как я полагаю, имел обыкновение писать полковник, и на этом передвижном столе стояла большая бутылка, полная чернил. Мой кулак, к несчастью, ударился о стол, и чернила тут же полетели вверх, покрыв лицо и манишку полковника. Тогда было зрелище видеть этого старшего чиновника, когда он схватил дейру промокашки и бросился на помощь своему вышестоящему офицеру, стремясь вытереть чернила; а также зрелище: полковник в агонии ударил промокательной бумагой в безобидный желудок старшего клерка. В этот момент вошел личный секретарь полковника с письмом и деньгами, и мне предложили вернуться в свою комнату. Этот инцидент был не в мою пользу, хотя я не знаю, причинил ли он мне особый вред.
Я всегда был в беде. Одна молодая женщина из сельской местности вздумала выйти за меня замуж, и, должно быть, она была очень глупой молодой женщиной, раз допускала такое желание. Мне нет нужды рассказывать эту часть истории более подробно, разве что заявить, что ни один молодой человек в таком положении никогда не был виноват в меньшей степени, чем я. Приглашение исходило от нее, а мне не хватило смелости дать ему решительный отрицательный ответ; но через полчаса я вышел из дома, уехав без обеда, и больше туда не возвращался. Потом была переписка, — если это можно назвать перепиской, в которой все письма шли с одной стороны. Наконец мать появилась на почте. Волосы у меня почти встают дыбом, когда я вспоминаю фигуру женщины, входящей в большую комнату, в которой я сидел с шестью или семью другими клерками, с большой корзиной в руке и огромной шляпой на голове. Посыльный тщетно пытался убедить ее остаться в передней. Она последовала за мужчиной и, подойдя к центру комнаты, обратилась ко мне громким голосом: «Энтони Троллоп, когда ты собираешься жениться на моей дочери?» У всех нас были худшие моменты, и это был один из худших для меня. Однако я пережил это и не женился на молодой особе. Все эти мелкие инциденты в офисе были против меня.
А потом в поле зрения властей вторгся какой-то другой этап моей личной жизни и причинил мне вред. Как я сейчас объясню, в то время у меня редко были деньги на оплату счетов. При таком положении вещей некий портной взял у меня акцепт, по-моему, на 12 фунтов, который попал в руки ростовщика. С этим человеком, жившим на маленькой улочке недалеко от Мекленбургской площади, у меня сложилось самое душераздирающее, но самое близкое знакомство. Наличными я однажды получил от него 4 фунта. За это и за первоначальную сумму портного, которая чудовищно выросла при неоднократном продлении контракта, я в конечном итоге заплатил более 200 фунтов. Это настолько распространенная история, что ее вряд ли стоит рассказывать; но особенность этого человека заключалась в том, что он настолько привязался ко мне, что каждый день навещал меня в моем кабинете. В течение долгого времени он считал, что стоит ежедневно подниматься по этим каменным ступеням, приходить и стоять за моим стулом, шепча мне всегда одни и те же слова: «Теперь я бы хотел, чтобы ты был пунктуален. Если бы ты только был пунктуальный, я бы хотел, чтобы ты получил все, что пожелаешь». Это был маленький, чистый старик, который всегда носил высокий накрахмаленный белый галстук, внутри которого имел привычку крутить подбородком, высказывая предостережения. Когда я вспоминаю постоянную настойчивость его визитов, я не могу не чувствовать, что ему очень плохо заплатили за его время и труды. Эти визиты были очень ужасны и вряд ли могли мне помочь в офисе.
Я должен рассказать еще об одном несчастье, случившемся со мной в те дни. Младшему клерку в кабинете секретаря всегда приказывали спать в помещении, и предполагалось, что он будет руководителем учреждения, когда другие сотрудники отдела секретаря покидали здание. Однажды, когда я был еще немногим больше мальчика, возможно, лет двадцати, я занимал эту ответственную должность. Около семи часов вечера мне сообщили, что королева — я думаю, Саксонии, но я уверен, что это была королева — хочет увидеть отправляемую ночную почту. В то время, когда почтовых карет было много, это было зрелище, и августейшие гости иногда приходили посмотреть на него. Но подготовка обычно велась заранее, и какой-нибудь эксперт из офиса мог оказать ему почести. В этом случае мы были застигнуты врасплох: эксперта не было. Поэтому я отдал приказы и сопровождал Ее Величество вокруг здания, ходя задом наперед, как я считал правильным, и часто подвергаясь большой опасности, поднимаясь и спускаясь по лестнице. Я был, однако, вполне доволен своей манерой исполнять непривычную и самую важную обязанность. С Ее Величеством были два старых господина, которые, без сомнения, были немецкими баронами, а также старая баронесса. Они приехали и, осмотрев достопримечательности, уехали в двух стеклянных каретах. Когда они собирались уйти, я увидел, как два барона совещались глубоким шепотом, а затем в результате этого разговора один из них вручил мне полкроны! Это тоже был плохой момент.
Как я уже говорил, я приехал в город, намереваясь жить веселой жизнью на 90 фунтов в год. Я проработал на Главпочтамте семь лет, и когда я его покинул, мой доход составил 140 фунтов стерлингов. Все это время я был безнадежно в долгах. Было два промежутка, составивших вместе почти два года, в течение которых я жил с матерью и потому жил с комфортом, — но и тогда меня обременяли долги. Она заплатила за меня много, заплатила все, что я просил ее заплатить, и все, что она могла узнать о моем долге. Но кто в таком состоянии когда-нибудь расскажет все и признает это честно? Долги, конечно, были невелики, но я не могу теперь подумать, как бы я мог жить, а иногда и наслаждаться жизнью, с таким бременем дунов, какое я выносил. Обычно меня сопровождали офицеры шерифа со странными документами, в которых я ничего не понимал. И все же я не помню, чтобы меня когда-нибудь запирали, хотя мне кажется, что я дважды был узником. В таких чрезвычайных ситуациях за меня кто-то платил. И теперь, оглядываясь назад, я должен спросить себя, была ли моя юность очень порочной. Ничего хорошего я в этом не сделал; но было ли справедливое основание ожидать от меня добра? Когда я прибыл в Лондон, мне не приготовили никакого образа жизни, мне даже не дали никаких советов. Я пошел в квартиру, а затем пришлось распорядиться своим временем. Я не принадлежал ни к одному клубу и знал очень мало друзей, которые приняли бы меня в свой дом. В таких условиях жизни молодой человек, несомненно, должен пойти домой после работы и провести долгие часы вечера за чтением хороших книг и чаем. Парень, воспитанный строгими родителями и не имевший даже представления о более веселых вещах, возможно, мог бы так поступить. Всю свою жизнь я провел в государственных школах, где видел веселые вещи, но никогда не получал от них удовольствия. Меня не учили хорошим книгам и чаю. Не было дома, в котором я мог бы привычно видеть женское лицо и слышать женский голос. Никакое стремление к приличной респектабельности не мешало мне. Мне кажется, что в таких обстоятельствах соблазны разгульной жизни почти наверняка возьмут верх над молодым человеком. Конечно, если разум достаточно силен и все сложено из достаточно прочного материала, искушения не одолеют. Но такие умы и такой материал, я думаю, необычны. В любом случае искушение взяло верх.
Интересно, сколько молодых людей совершенно разваливаются, когда их таким же образом высылают в Лондон? Я думаю, что из всех этапов такой жизни мой был самым опасным. Мальчик, которого отправляют на механическую работу, имеет больше часов, в течение которых он защищен от опасностей, и в детстве его обычно не учили предвкушать удовольствия. Он ищет тяжёлой работы и тяжелых обстоятельств. Я, конечно, не получил большого удовольствия, но я был среди тех, кто получал от этого удовольствие и был приучен ожидать его. И я наполнил свой разум мыслями о таких радостях. И теперь, за исключением официальных часов, я был совершенно бесконтрольен, вне влияния какой-либо приличной семьи вокруг меня. Я сказал кое-что о комедии такой жизни, но она, конечно, имела и трагический аспект. Переворачивая все это в уме, как я постоянно делал в последующие годы, трагедия всегда была на первом месте. Так и было, время шло. Можно ли спастись от такой грязи? Я бы спросил себя; и я всегда отвечал, что спасения нет. Образ жизни сам по себе был жалким. Я ненавидел офис. Я ненавидел свою работу. Больше всего я ненавидел свое безделье. После окончания школы я часто говорил себе, что единственная карьера в жизни, которая мне доступна, — это карьера писателя, а единственный доступный мне способ авторства — это писатель романов. В дневнике, который я прочитал и уничтожил несколько лет назад, я обнаружил, что этот вопрос обсуждался еще до того, как я проработал два года на почте. О парламенте не могло быть и речи. У меня не было средств пойти в коллегию адвокатов. В официальной жизни, такой как та, с которой меня познакомили, казалось, не было никаких возможностей для настоящего успеха. Ручки и бумага, которыми я мог командовать. Поэзия, которую я считал недоступной для меня. Я считал, что и драма, которую я хотел бы выбрать, выше меня. Для истории, биографии или написания эссе у меня не было достаточной эрудиции. Но я думал, что возможно напишу роман. Я очень рано решил, что именно в такой форме и следует предпринять попытку. Но шли месяцы и годы, а попыток предпринято не было. И все же ни дня не проходило без мыслей о попытке и мысленного признания позора отсрочки. Какой читатель не поймет муки раскаяния, вызванной таким состоянием ума? Джентльмен с Мекленбургской площади всегда был со мной по утрам, всегда зля меня своим ненавистным присутствием, но когда наступал вечер, я не мог изо всех сил стараться избавиться от него.
В те дни я немного читал и научился читать по-французски и по-латыни. Я познакомился с Горацием и познакомился с произведениями наших величайших поэтов. У меня был сильный энтузиазм, и я помню, как выбросил из окна на Нортумберленд-стрит, где я жил, том Жизнеописаний поэтов Джонсона, потому что он насмешливо отзывался о Ликидасе. . Это была Нортумберленд-стрит рядом с работным домом Мэрилебон, на заднюю дверь которого выходила моя комната, — самое тоскливое жилище, в котором, как мне кажется, я почти разорил добродушного хозяина ночлежки своей постоянной неспособностью заплатите ей то, что я должен.
Как я получал хлеб насущный, я почти не помню. Но я помню, что часто мне не удавалось найти себе ужин. Молодым мужчинам теперь обычно предоставляют еду. Я как бы вел дом. Каждый день мне приходилось находить себе дневную еду. За завтрак я мог получить кредит в гостинице, хотя этот кредит часто заканчивался. Но за все это я часто завтракал, чтобы расплачиваться изо дня в день; а в вашей столовой кредит не дают. У меня не было друзей, с которыми я мог бы регулярно общаться. На Фулхэм-роуд у меня был дядя, но его дом находился в четырех милях от почтового отделения и почти так же далеко от моего собственного жилья. Затем последовали займы денег, иногда абсолютная нужда и почти постоянные страдания.
Прежде чем я расскажу, как случилось, что я оставил эту несчастную жизнь, я должен сказать пару слов о дружбе, которая уменьшила ее несчастья. Моим самым первым другом в жизни был Джон Меривейл, с которым я учился в школе в Санбери и Харроу и который приходился племянником моему наставнику Гарри Друри. Герман Меривейл, который впоследствии стал моим другом, был его братом, как и Чарльз Меривейл, историк и декан Эли. Я знал Джона, когда мне было десять лет, и рад сообщить, что однажды на этой неделе он собирается пообедать со мной. Надеюсь, я не оскорблю его репутацию, заявив, что в те дни я очень много жил с ним. Он тоже был беден, но у него был дом в Лондоне, и он мало что знал о той нищете, которую я терпел. Более пятидесяти лет мы с ним были близкими друзьями. И еще был один У... А..., чьи жизненные несчастья не позволяют мне назвать его полное имя, но которого я очень любил. Он учился в Винчестере и Оксфорде, и в обоих местах у него были проблемы. Затем он стал школьным учителем или, лучше сказать, швейцаром, — и, наконец, стал подчиняться приказам. Но он был неудачлив во всем и умер несколько лет назад в нищете. Он был самым извращенным; застенчивый и очень боящийся женского платья; не умея ни в чем себя сдерживать, но все же с совестью, которая всегда жалила его; любящий друг, хотя и очень сварливый; и, возможно, из всех мужчин, которых я знал, самый юмористический. И он совершенно не осознавал своего юмора. Он не знал, что может так поступать со всеми делами, чтобы доставлять им бесконечное удовольствие.
Бедный В—— А——! Для него не наступил счастливый поворот, когда жизнь серьезно замаячила перед ним, а затем стала процветающей.
У—А——, Меривейл и я образовали небольшой клуб, который мы назвали «Обществом бродяг» и подчинялись определенным правилам, в соответствии с которыми мы бродили пешком по графствам, прилегающим к Лондону. Саутгемптон был самой дальней точкой, до которой мы когда-либо добирались; но Бакингемшир и Хартфордшир были нам дороже. Это были самые счастливые часы в моей тогдашней жизни — и, возможно, не менее невинные, хотя мы часто подвергались опасности со стороны деревенских властей, которых мы возмущали. Не платить ни за какой транспорт, никогда не тратить больше пяти шиллингов в день, подчиняться всем приказам избранного правителя часа (это налагается большими штрафами) - все это входило в наши законы. Мне хотелось бы рассказать здесь о некоторых наших приключениях: как А. изобразил сбежавшего сумасшедшего, а мы, преследующих его смотрителей, и таким образом подвезли себя в телеге, из которой мы убежали, приближаясь к сумасшедшему дому; как нас ночью выгнали из маленького городка, а горожане напугались громкости нашего веселья; и как мы однажды пробрались на сеновал и темным утром были разбужены вилами, — и как малолетний владелец этих вил убежал через окно, услышав жалобы раненого! Но веселье было развлечением W—— A—— и, как я сказал, перестанет быть весельем.
Именно в эти годы Джон Тилли, который уже много лет является бессменным старшим офицером почтового отделения, женился на моей сестре, которую он взял с собой в Камберленд, где он работал одним из наших геодезистов. Он был моим другом более сорока лет; как и Перегрин Бёрч, клерк в Палате лордов, который женился на одной из дочерей полковника Гранта, который помогал нам в набеге, который мы совершили на товары, конфискованные офицером шерифа в Харроу. Это были самые старые и самые дорогие друзья в моей жизни; и я могу благодарить Бога, что трое из них еще живы.
Когда я проработал почти семь лет в канцелярии секретаря почтового отделения, всегда ненавидя свое там положение и все же всегда опасаясь, что меня уволят с него, появился способ спастись. Недавно в службе был создан новый состав офицеров, названных землемерными приказчиками. В то время в Англии было семь геодезистов, двое в Шотландии и трое в Ирландии. К каждому из этих офицеров недавно был прикреплен клерк, в обязанности которого входило разъезжать по стране по приказу геодезиста. Среди молодых людей в офисе было много сомнений, стоит ли им претендовать на эти места. Заработок был хороший, а работа заманчивая; но сначала в этом положении должно было быть что-то унизительное. Ходил слух, что первый геодезист, у которого появился приказчик, послал его за пивом; и что другой попросил своего клерка отправить белье в стирку. Однако существовало убеждение, что нет ничего хуже, чем койка геодезиста в Ирландии. Однако все клерки были назначены. Мне не пришло в голову ни о чем просить, и мне ничего не дали. Но через некоторое время с крайнего запада Ирландии пришло сообщение о том, что посланный туда человек был абсурдно недееспособен. Вероятно, тогда считалось, что никто, кроме абсурдно неспособного человека, не отправится с такой миссией на запад Ирландии. Когда отчет поступил в лондонский офис, я был первым, кто его прочитал. Я находился в то время в тяжелом положении, имея на голове долги, ссоры с нашим секретарем-полковником и полное убеждение, что жизнь моя ведет меня вниз, в самую низшую яму. Поэтому я смело пошел к полковнику и вызвался добровольцем в Ирландию, если он пошлет меня. Он был рад, что избавился от меня, и я пошел. Это произошло в августе 1841 года, когда мне было двадцать шесть лет. Моя зарплата в Ирландии должна была составлять всего 100 фунтов в год; но я должен был получать пятнадцать шиллингов в день за каждый день моего отсутствия дома и шесть пенсов за каждую пройденную милю. Такие же льготы были сделаны в Англии; но в то время путешествие по Ирландии обходилось вдвое дешевле, чем в Англии. Мой доход в Ирландии после оплаты расходов сразу составил 400 фунтов стерлингов. Это была первая удача в моей жизни.
О книжной серии HackerNoon: мы предлагаем вам наиболее важные технические, научные и познавательные книги, являющиеся общественным достоянием.
Эта книга является общественным достоянием. Энтони Троллоп (2004). Автобиография Энтони Троллопа. Урбана, Иллинойс: Проект Гутенберг. Получено https://www.gutenberg.org/cache/epub/5978/pg5978-images.html.
Эта электронная книга предназначена для использования кем угодно и где угодно, бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать ее, отдать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, включенной в данную электронную книгу или на сайте www.gutenberg.org< /a>, расположенный по адресу https://www.gutenberg.org/policy/license.html.. эм>
Оригинал

