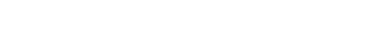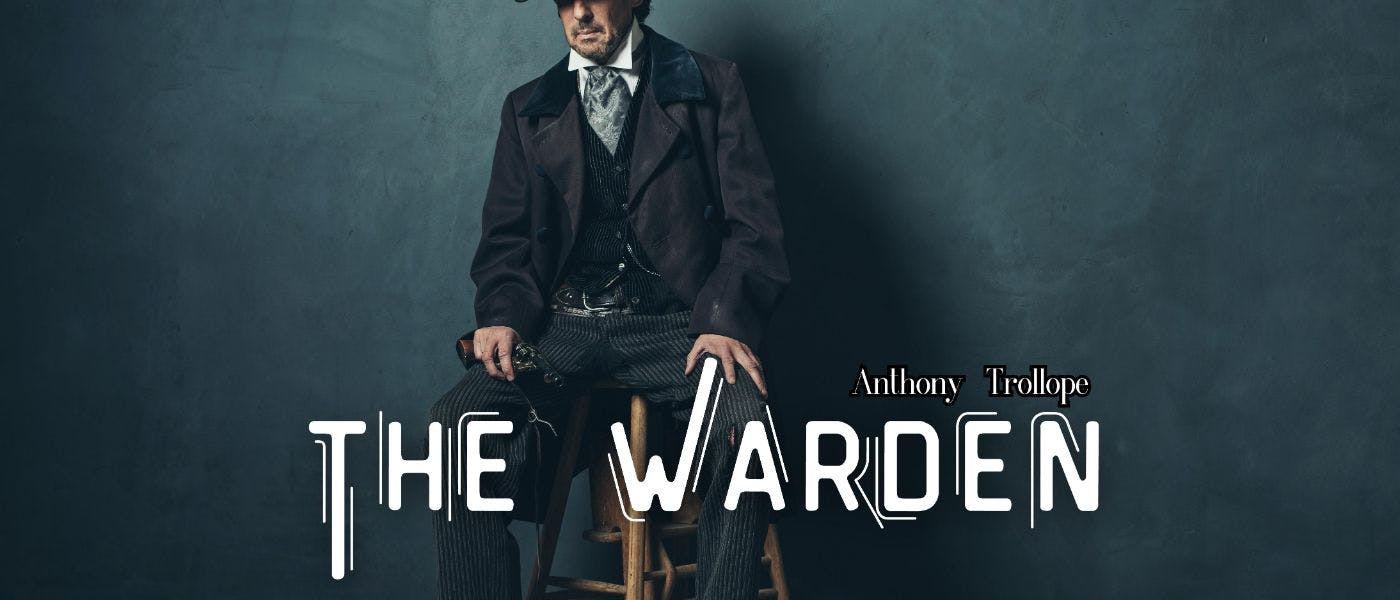
Чаепитие у смотрителя
12 сентября 2023 г.Страж Энтони Троллопа входит в серию книг HackerNoon. Вы можете перейти к любой главе этой книги здесь. Чаепитие начальника
Чаепитие начальника
После долгих мучительных сомнений мистер Хардинг смог прийти к выводу только об одном. Он решил, что во всяком случае не будет обижаться и не сделает этот вопрос поводом для ссоры ни с Болдом, ни с бедсменами. В поддержку этой резолюции он сам в тот же день написал мистеру Болду записку, приглашая его встретиться с несколькими друзьями и послушать музыку в вечер, назначенный на следующую неделю. Если бы Элеоноре не была обещана эта маленькая вечеринка, он в своем нынешнем состоянии, вероятно, избежал бы такого веселья; но обещание было дано, приглашения должны были быть написаны, и когда Элеонора посоветовалась со своим отцом по этому поводу, ей было неприятно услышать, как он сказал: «О, я думал о Болде, поэтому я взял это в свою голову». самому написать ему, а ты должен написать его сестре».
Мэри Болд была старше своего брата, и на момент нашей истории ей было чуть больше тридцати. Она не была непривлекательной молодой женщиной, хотя и далеко не красивой. Большой ее заслугой была доброта нрава. Она не была ни очень умной, ни очень оживленной, и, по-видимому, у нее не было такой энергии, как у ее брата; но она руководствовалась высоким принципом добра и зла; характер у нее был мягкий, а недостатков было меньше, чем достоинств. Те, кто случайно встречал Мэри Болд, мало о ней думали; но те, кто хорошо ее знал, любили ее хорошо, и чем дольше они знали ее, тем больше любили ее. Среди тех, кто любил ее больше всего, была Элеонора Хардинг; и хотя Элеонора никогда открыто не говорила с ней о своем брате, каждый понимал чувства другого по отношению к нему. Брат и сестра сидели вместе, когда принесли две записки.
«Как странно, — сказала Мэри, — что они отправили две записки. Что ж, если мистер Хардинг станет модным, мир изменится».
Ее брат сразу понял природу и намерение мирного предложения; но ему было не так легко вести себя хорошо в этом деле, как мистеру Хардингу. Страдающему гораздо легче быть щедрым, чем угнетателю. Джон Болд чувствовал, что не может пойти на вечеринку к начальнику: он никогда не любил Элеонору так сильно, как сейчас; никогда еще он так сильно не чувствовал, как ему хотелось сделать ее своей женой, как теперь, когда перед ним предстало так много препятствий. А вот сам ее отец как бы расчищал те самые препятствия, и все же чувствовал, что не может больше ходить в дом как открытый друг.
Пока он сидел и думал об этом с запиской в руке, его сестра ждала его решения.
«Ну, — сказала она, — я полагаю, нам придется написать отдельные ответы, и оба говорят, что мы будем очень счастливы».
"Вы пойдете, конечно, Мэри," сказал он; на что она с готовностью согласилась. — Я не могу, — продолжал он, выглядя серьезным и мрачным. «Я бы хотел этого от всего сердца».
— А почему бы и нет, Джон? сказала она. Она еще ничего не слышала о новом злоупотреблении, которое собирался исправить ее брат, - по крайней мере, ничего, что связывало бы его с именем ее брата.
Некоторое время он сидел и думал, пока не решил, что лучше всего сразу сказать ей, о чем он собирается: рано или поздно это придется сделать.
«Боюсь, в данный момент я больше не могу приходить к мистеру Хардингу как друг».
«О, Джон! Почему бы и нет? Ах, ты поссорился с Элеонорой!»
"Нет, действительно," сказал он; «Я с ней пока не ссорюсь».
«Что такое, Джон?» - сказала она, глядя на него с тревожным и любящим лицом, ибо она хорошо знала, сколько всего его сердца было в этом доме, в который, по его словам, он больше не мог войти.
- Да, - сказал он наконец, - я взялся за дело этих двенадцати стариков из больницы Хайрама, и, конечно, это приводит меня в контакт с мистером Хардингом. Возможно, мне придется противостоять ему, вмешаться в его дела... возможно, ранить его."
Мэри некоторое время пристально смотрела на него, прежде чем дала себе слово ответить, а затем просто спросила, что он собирается сделать для стариков.
«Да ведь это длинная история, и я не уверен, что смогу объяснить вам ее. Джон Хайрам составил завещание и оставил свое имущество на благотворительность некоторым бедным старикам, а доходы вместо того, чтобы пойти на благо из этих людей главным образом идут в карман староста и епископский управляющий».
«И вы хотите отобрать у мистера Хардинга его долю?»
«Я пока не понимаю, что я имею в виду. Я хочу узнать об этом. Я хочу увидеть, кто имеет право на эту собственность. Я хочу увидеть, если смогу, чтобы справедливость была восстановлена в отношении бедняков города Барчестера. вообще, кто, собственно, и является наследниками по завещанию. Я имею в виду, короче говоря, уладить дело, если смогу.
«И зачем тебе это делать, Джон?»
«Вы можете задать тот же вопрос кому угодно», сказал он; «и в соответствии с этим обязанность защищать этих бедняков не будет принадлежать никому. Если мы хотим действовать по этому принципу, слабых никогда нельзя защищать, никогда нельзя противостоять несправедливости, и никто не должен бороться за бедных». !" И Смелый стал утешаться теплом собственной добродетели.
«Но разве нет никого, кто мог бы это сделать, кроме вас, так долго знающего мистера Хардинга? Конечно же, Джон, как друг, как молодой друг, гораздо моложе мистера Хардинга…»
- Во всем виновата женская логика, Мэри. Причем здесь возраст? Другой мужчина мог бы заявить, что он слишком стар; а что касается его дружбы, то, если все в порядке, личные мотивы никогда не должны вмешиваться. Поскольку я уважаю мистера Хардинга, является ли это причиной того, что я должен пренебречь своим долгом перед этими стариками или мне следует отказаться от работы, которая, по мнению моей совести, является хорошей, потому что я сожалею о потере его общества? "
— А Элеонора, Джон? — сказала сестра, робко глядя в лицо брата.
- Элеонора, то есть мисс Хардинг, если она сочтет это нужным, то есть если ее отец - или, вернее, если она - или даже он - если они сочтут это необходимым, - но сейчас нет необходимости говорить об Элеоноре Хардинг; но вот что я скажу: если у нее такой дух, как я ей отдаю, она не осудит меня за то, что я считаю своим долгом». И Смелый утешал себя утешением римлянина.
Мэри некоторое время сидела молча, пока наконец брат не напомнил ей, что на записи нужно отвечать, и она встала, поставила перед собой письменный стол, достала ручку и бумагу и медленно написала на нем:
Pakenham Villas
Tuesday morning
Моя дорогая Элеонора,
Я—
а затем остановилась и посмотрела на брата.
"Ну, Мэри, почему бы тебе не написать?"
«О, Джон, — сказала она, — дорогой Джон, пожалуйста, подумай об этом лучше».
— Подумай лучше о чем? сказал он.
«Об этом о больнице, обо всем этом о мистере Хардинге, о том, что вы говорите об этих стариках. Ничто не может вас привлечь, ни один долг не может потребовать от вас противопоставить себя своему самому старому, вашему лучшему другу. О, Джон, подумай об Элеоноре. Ты разобьешь ей и себе сердце».
«Чепуха, Мэри; сердце мисс Хардинг в такой же безопасности, как и твое».
«Молись, молись, ради меня, Джон, брось это. Ты знаешь, как сильно ты ее любишь». И она подошла и преклонила перед ним колени на ковре. «Молитесь, откажитесь от этого. Вы сделаете несчастными себя, и ее, и ее отца, вы сделаете несчастными всех нас. И ради чего? Ради мечты о справедливости. Вы никогда не сделаете этих двенадцать человек счастливее, чем они». теперь есть."
— Ты этого не понимаешь, моя дорогая девочка, — сказал он, приглаживая рукой ее волосы.
«Я понимаю это, Джон. Я понимаю, что это химера, мечта, которая у тебя есть. Я хорошо знаю, что никакой долг не может потребовать от тебя этого безумного — этого самоубийственного поступка. Я знаю, что ты любишь Элеонору Хардинг всей душой. твое сердце, и я говорю тебе теперь, что она тоже тебя любит. Если бы перед тобой стоял простой, положительный долг, я был бы последним, кто предложил бы тебе пренебречь им ради какой-либо женской любви; но это... о, подумай еще раз , прежде чем вы сделаете что-нибудь, что приведет к необходимости разногласий между вами и мистером Хардингом». Он не ответил, а она стояла на коленях, опираясь на его колени, но по его лицу она подумала, что он склонен уступить. «Во всяком случае позвольте мне сказать, что вы пойдете на эту вечеринку. Во всяком случае, не порывайте с ними, пока у вас есть сомнения». И она встала, надеясь завершить свою записку так, как ей хотелось.
«Мой разум не подлежит сомнению», — сказал он наконец, вставая. «Я никогда больше не смог бы уважать себя, если бы сейчас уступил, потому что Элеонора Хардинг прекрасна. Я люблю ее: я бы протянул руку, чтобы услышать, как она расскажет мне, что вы сказали, говоря от ее имени; но я не могу ради нее ради того, чтобы вернуться от дела, которое я начал. Я надеюсь, что она сможет в дальнейшем признать и уважать мои мотивы, но я не могу сейчас пойти в качестве гостя в дом ее отца». И барчестер Брут вышел, чтобы подкрепить свою решимость размышлениями о своей добродетели.
Бедная Мэри Болд села и с грустью закончила свою записку, сказав, что сама пойдет на вечеринку, но ее брату неизбежно помешали сделать это. Боюсь, она не восхищалась, как следовало бы, самоотдачей его исключительной добродетели.
Вечеринка прошла, как обычно бывает. Там были толстые старушки в тонких шелковых платьях и стройные молодые дамы в прозрачных муслиновых платьях; старые господа стояли спиной к пустому камину, выглядя далеко не так уютно, как они чувствовали бы себя дома в собственных креслах; и молодые джентльмены, с довольно напряженными шеями, столпились возле двери, еще не набравшиеся смелости атаковать кисейных платьев, ожидающих битвы, выстроившихся полукругом. Надзиратель попытался спровоцировать атаку, но потерпел неудачу, не обладая генеральским тактом; его дочь делала все, что могла, чтобы утешить войска, находящиеся под ее командованием, которые питались освежающими порциями пирожных и чая и терпеливо ожидали предстоящего сражения; но у нее самой, Элеоноры, не было духа для работы; единственного врага, с копьем которого она хотела столкнуться, не было, а она и другие были несколько скучны.
Громче всех голосов был слышен ясный звучный тон архидьякона, когда он рассказывал братьям-священникам об опасности церкви, о пугающих слухах о безумных реформах даже в Оксфорде и об отвратительных ересях доктора Уистона.
Вскоре, однако, стали робко раздаваться более сладкие звуки. В квартале, примечательном круглыми табуретками и пюпитрами, происходило небольшое движение. В подсвечниках расставили восковые свечи, из потайных уголков достали большие книги, и вечерняя работа началась.
Как часто эти колышки перекручивались и перекручивались, прежде чем наш друг обнаружил, что он их скрутил достаточно; сколько нестройных скрипов обещало грядущую гармонию. Как сильно развевался и мнулся муслин, прежде чем Элеонора и еще одна нимфа должным образом уселись за рояль; как тесно прижался к стене этот высокий Аполлон, а его флейта, такая же длинная, как и он сам, возвышалась над головами его хорошеньких соседок; в какой маленький угол забрался этот круглый и витиеватый маленький минорный канон, и там с поразительным мастерством нашел место, чтобы настроить свою привычную скрипку!
И вот начинается грохот: они уходят в полном потоке гармонии вместе, — вверх по холму и вниз по долине, — то громче и громче, потом ниже и ниже; теперь громко, как будто разжигая битву; затем низко, как будто оплакивая убитого. Во всем, сквозь все и превыше всего слышится виолончель. Ах, недаром так перекручивались и перекручивались эти колышки, — слушай, слушай! Только теперь этот печальнейший из инструментов рассказывает свою трогательную историю. В молчании и трепете стоят скрипка, флейта и фортепиано, чтобы услышать скорбь своего плачущего брата. Это всего лишь на мгновение: прежде чем меланхолия этих низких нот полностью осознается, снова наступает вся сила всей группы; - вниз идут педали, прочь устремляются двадцать пальцев, со всем порывом страсти царапая басовые ноты. . Аполлон дует до тех пор, пока его жесткий шейный платок становится не лучше веревки, а младший каноник работает обеими руками, пока не падает в обмороке от изнеможения о стену.
Как получается, что сейчас, когда все должны молчать, когда вежливость, если не вкус, должна заставлять людей слушать, - как получается, что в этот момент корпус в черных мундирах покидает свое отступление и начинает перестрелку? Один за другим они выползают вперед и робко и неточно стреляют из маленьких ружей. Ах, мои люди, подобные усилия не захватят ни одного города, даже несмотря на то, что враг никогда не должен быть настолько открыт для нападения. Наконец в дело вступает более смертоносная артиллерия; медленно, но эффективно продвигается вперед; кисейные ряды ломаются и приходят в смятение; грозный ряд стульев уступает место; бой ведется уже не между противоборствующими полками, а рукопашный и пеший с бойцами в одиночку, как в славные былые времена, когда бой был действительно благородным. В углах, под тенью штор, за диванами и полускрытыми дверями, в скрытых окнах и под свисающими гобеленами наносятся и возвращаются удары, смертельные, неизлечимые, несущие смерть.
Помимо этого возникает еще один бой, более трезвый и серьезный. Архидьякон сражается с двумя пребендариями, а коренастый полноценный настоятель помогает ему во всех опасностях и всех удовольствиях короткого виста. С торжественной энергией они наблюдают за перетасованной колодой и в ожидании приближающегося козыря. С какой трепетной тщательностью расставляют они свои карты, завидуя глазам друг другу! Почему этот худощавый доктор такой медлительный, трупный человек с впалой челюстью и запавшим глазом, не соответствующий богатству своей материнской церкви! Ах, почему ты так медлителен, ты, скудный доктор? Посмотрите, как архидиакон, потеряв дар речи в агонии, выкладывает на доску свои карты и смотрит на небо или на потолок в поисках поддержки. Послушайте, как он вздыхает, так как большими пальцами в кармане жилета он словно показывает, что конец таким мучениям еще даже не близок! Напрасна надежда, если она вообще существует, потревожить этого жалкого врача. С тщательностью и точностью он кладет каждую карту, хорошо взвешивает ценность каждого могучего туза, каждого охраняемого короля и дающей утешение королевы; спекулирует на лжеце и десятке, пересчитывает все свои масти и устанавливает цену на всю сумму. Наконец выводится карта, и на доску быстро падают еще три. Маленький доктор снова ведет, а его партнер блестящими глазами поглощает трюк. Это было сделано уже трижды: трижды удача неизменно благоприятствовала отряду пребендариев, прежде чем архидьякон поднялся на битву; но при четвертом нападении он пригвоздил к земле поверженного короля, положив его корону и скипетр, густую бороду и опустив лоб, с жалкой двойкой.
«Как Давид сделал Голиафа», — говорит архидьякон, перекладывая четыре карты своему партнеру. И тут водят козырь, потом еще один козырь; затем король, а затем туз, а затем длинная десятка, которая сбивает скудного доктора его единственную оставшуюся башню силы - его заветную козырную даму.
«Что, второго клуба нет?» — говорит архидьякон своему партнеру.
«Только одна дубинка», — бормочет из глубины живота кошельковый ректор, который сидит красный, молчаливый, непроницаемый, осторожный, надежный, но не блестящий союзник.
Но архидиакону плевать на многие клубы или ни на один. Он выбрасывает оставшиеся карты с быстротой, наиболее раздражающей его противников, сует им около четырех карт как положенную им порцию, остаток швыряет через стол краснолицому ректору; выкрикивает «два по картам и два по почестям, а в прошлый раз проделывал странный трюк», отмечает тройку под подсвечником и раздает вторую колоду прежде, чем скудный доктор подсчитал свои потери.
Итак, вечеринка начальника закончилась, и мужчины и женщины, расправляя шали и туфли, заявили, как это было приятно; и миссис Гуденаф, краснолицая жена священника, пожав начальнику руку, заявила, что никогда не развлекалась лучше; это показывало, как мало удовольствия она позволяла себе в этом мире, так как весь вечер просидела в одном и том же кресле без дела, не разговаривая и не обращаясь к ней. А Матильда Джонсон, когда позволила юному Диксону из банка повязать плащ себе на шею, подумала, что двести фунтов в год и небольшой домик вполне подойдут для счастья; кроме того, он наверняка когда-нибудь станет менеджером. И Аполлон, сложив свою флейту в карман, почувствовал, что оправдал себя с честью; и архидьякон приятно позвякивал о своих достижениях; но скудный доктор ушел, не внятно говоря, время от времени бормоча на ходу: «тридцать три балла!» "три тридцать очков!"
И вот они все ушли, и мистер Хардинг остался один со своей дочерью.
О том, что произошло между Элеанорой Хардинг и Мэри Болд, рассказывать нет нужды. Действительно, дело благодарности за то, что ни историк, ни романист не слышат всего, что говорят их герои или героини, иначе как хватило бы трех или двадцати томов! В данном случае я так мало слышал подобного рода, что живу надеждой закончить свою работу в 300 страниц и завершить это приятное дело — роман в одном томе; но между ними что-то произошло, и когда надзиратель задул восковые свечи и убрал свой инструмент в футляр, его дочь стояла грустная и задумчивая у пустого камина, решив поговорить с отцом, но не решаясь, о чем сказала бы она.
«Ну, Элеонора, — сказал он, — ты идешь спать?»
"Да, - сказала она, двигаясь, - я так думаю; но папа, мистера Болда сегодня вечером здесь не было; знаешь, почему бы и нет?"
"Его спрашивали, я сам ему написал", - сказал надзиратель.
«А знаешь, почему он не пришел, папа?»
«Ну, Элеонора, я мог бы догадаться; но бесполезно гадать о таких вещах, моя дорогая. Что заставляет тебя так серьезно относиться к этому?»
«О, папа, скажи мне, — воскликнула она, обняв его и глядя ему в лицо; «Что он собирается делать? Что все это значит? Есть ли какая-нибудь… какая-нибудь…» она не знала, какое слово использовать, «какая-либо опасность?»
«Опасность, дорогая, какая опасность?»
«Опасность для тебя, опасность неприятностей, и потерь, и… О, папа, почему ты мне обо всем этом раньше не рассказал?»
Мистер Хардинг был не из тех, кто мог бы строго судить кого-либо, тем более дочь, которую он теперь любил больше, чем любое живое существо; но все же в этот момент он судил о ней неправильно. Он знал, что она любит Джона Болда; он полностью сочувствовал ее привязанности; изо дня в день он все больше обдумывал это дело и с нежной заботой любящего отца пытался обдумать, как можно поступить так, чтобы сердце его дочери не было принесено в жертву спору, который, вероятно, был существовать между ним и Болдом. Теперь, когда она впервые заговорила с ним на эту тему, было естественно, что он больше думал о ней, чем о себе, и воображал, что ее беспокоят ее собственные заботы, а не его.
Он постоял перед ней молча, пока она смотрела ему в лицо, а затем, поцеловав ее в лоб, уложил ее на диван.
- Скажи мне, Нелли, - сказал он (он называл ее Нелли только в самых добрых, нежных и милых настроениях, а между тем все настроения у него были добрые и милые), - скажи мне, Нелли, тебе нравится мистер Болд - сильно?
Она была совершенно озадачена этим вопросом. Я не скажу, что она забыла себя и свою любовь, думая о Джоне Болде и беседуя с Мэри: она, конечно, не сделала этого. Ей было больно думать, что человек, о котором она не могла не признаться, что любит его, уважением которого она так гордилась, что такой человек восстанет против ее отца, чтобы погубить его. Она чувствовала, что ее тщеславие уязвлено, что его привязанность к ней не удержала его от такого поведения; если бы он действительно заботился о ней, он не стал бы рисковать ее любовью таким безобразием. Но больше всего она боялась за отца, и когда она говорила об опасности, это была опасность для него, а не для нее самой.
Ее вообще озадачил вопрос: «Он мне нравится, папа?»
— Да, Нелли, он тебе нравится? Почему он тебе не должен нравиться? но это плохое слово; ты его любишь? Она сидела неподвижно в его объятиях, не отвечая ему. Она, конечно, не была готова к признанию в любви, намереваясь, как она это сделала, оскорбить самого Джона Болда и услышать, как ее отец делает то же самое. «Пойдем, любовь моя, — сказал он, — давай честно разберемся: ты скажешь мне, что касается тебя, а я скажу тебе, что касается меня и больницы».
И затем, не дожидаясь ответа, он описал ей, как мог, обвинение, которое было выдвинуто по поводу завещания Хирама; претензии, которые выдвинули старики; в чем он считал силу и в чем слабость своей собственной позиции; курс, который избрал Болд, и то, что, как он предполагал, он собирался предпринять; а затем мало-помалу, без дальнейших вопросов, он предположил факт любви Элеоноры и говорил об этой любви как о чувстве, которое он никоим образом не мог неодобрить: он извинялся за Смелого, извинял то, что делал; более того, похвалил его за энергию и намерения; придавал большое значение своим хорошим качествам и не подчеркивал ни одного из его недостатков; затем, напомнив дочери, как уже поздно, и утешив ее с большой уверенностью, которую он сам почти не чувствовал, он с полными глазами и полным сердцем отправил ее в ее комнату.
Когда на следующее утро мистер Хардинг встретил свою дочь за завтраком, никаких дальнейших дискуссий по этому поводу не было, и эта тема между ними не упоминалась в течение нескольких дней. Вскоре после вечеринки Мэри Болд зашла в больницу, но в гостиной в это время находились разные люди, и поэтому она ничего не сказала о своем брате. На следующий день Джон Болд встретил мисс Хардинг на одной из тихих, мрачных и затененных аллей ближнего квартала. Ему очень хотелось ее увидеть, но он не хотел зайти в дом смотрителя и на самом деле подстерегал ее в ее частных убежищах.
"Моя сестра рассказала мне, - сказал он, резко продолжая свою заранее обдуманную речь, - что моя сестра рассказала мне, что у вас была восхитительная вечеринка на днях. Мне было так жаль, что я не смог там быть".
«Нам всем было жаль», — сказала Элеонора с достоинством и хладнокровием.
- Я думаю, мисс Хардинг, вы понимаете, почему в этот момент... И Болд заколебался, пробормотал, остановился, снова начал свое объяснение и снова сломался.
Элеонора нисколько ему не помогла.
"Думаю, моя сестра объяснила вам, мисс Хардинг?"
- Пожалуйста, не извиняйтесь, мистер Болд; мой отец, я уверен, всегда будет рад вас видеть, если вы захотите прийти в дом сейчас, как и раньше; ничего не произошло, что могло бы изменить его чувства: что касается ваших собственных взглядов, вы мы, конечно, лучшие судьи."
«Ваш отец очень добрый и щедрый; он всегда был таким; но вы, мисс Хардинг, сами… я надеюсь, вы не будете судить меня строго, потому что…»
«Мистер Болд, — сказала она, — вы можете быть уверены в одном: я всегда буду считать моего отца правым, а тех, кто выступает против него, я буду считать неправыми. Если те, кто не знает его, выступают против него, я у меня будет достаточно милосердия, чтобы поверить, что они не правы из-за ошибочных суждений; но если я увижу, что на него нападают те, кто должен знать его, любить его и уважать его, я буду вынужден составить о них иное мнение. ." А затем, сделав низкий реверанс, она поплыла дальше, оставив своего возлюбленного совсем не в счастливом настроении.
О книжной серии HackerNoon: мы предлагаем вам наиболее важные технические, научные и познавательные книги, являющиеся общественным достоянием.
Эта книга является общественным достоянием. Энтони Троллоп (1996). Смотритель. Урбана, Иллинойс: Проект Гутенберг. Получено https://www.gutenberg.org/cache/epub/619/pg619-images.html.
Эта электронная книга предназначена для использования кем угодно и где угодно, бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать ее, отдать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, включенной в данную электронную книгу или на сайте www.gutenberg.org< /a>, расположенный по адресу https://www.gutenberg.org/policy/license.html.< /эм>
Оригинал